

- Лента
- |
- Участники
- |
- Фото 301
- |
- Видео 97
- |
- Мероприятия 0
Не опали меня, Купина. 1812 Василий Костерин (окончание )
Глава шестая Опять в мистическом сердце Руси
I
Подошло время отправиться в Россию. Мари-Анн и дети помогли мне упаковать икону. Сначала мы наложили на нее ризу. Дядюшка Мишель принес небольшие медные гвоздики, и мы заколотили их в прежние отверстия. Конечно, было бы надежнее пробить оклад в новых местах, но мы не решились на это. Было видно, что всем нелегко расставаться со святыней, более пятнадцати лет остававшейся свидетельницей и покровительницей нашего житья-бытья. Я с необъяснимой радостью и благоговением старался завернуть икону поплотнее и понадёжнее. André дал мне два письма: к своим родственникам и друзьям с просьбой навести справки о возможности вернуться в Россию и отдельное — к брату, чтобы тот похлопотал, если понадобится, в нужном месте.
Мне сказали, что путешествие из Парижа в Москву на лошадях не только утомительно, но и опасно. Не знаю, какие там могли быть опасности, но я послушался и решил отправиться в Россию морским путём через Любек и Петербург. Главная причина состояла в том, что мне хотелось взглянуть на Петербург: другую столицу русских, которую во время Великого похода мы имели в виду, но так и не увидели. За четыре дня я добрался на лошадях до Любека. Я слышал, что теперь оттуда в Петербург регулярно ходит пассажирский пароход с лопастными колесами, но в двадцать восьмом году такие судна только начали появляться в Любеке. Кстати, один довольно большой пароход такого рода я видел в другом конце порта.
В этом «вольном городе» я успел наскоро посмотреть только красную готическую церковь святой Марии с двумя стодвадцатипятиметровыми покрытыми патиной шпилями, Голштинские ворота, кафедральный собор, построенный Генрихом Львом, кажется, в тринадцатом веке, и Jakobikirche — церковь святого Иакова.
Вечером в извилистом устье реки Траве я сел на трёхмачтовое парусное судно. Со времён нашего плавания на Мальту, а потом дальше в Египет мне ни разу не приходилось выходить в море. Я так устал в дороге от Парижа до Любека, что решил пожертвовать красивыми видами немецких берегов на закате, надеясь взамен насладиться утренней зарёй в открытом море, и ушёл в свою каюту к моей иконе Неопалимой Купины.
Таможня находилась в Кронштадте[60]. Офицеры-таможенники удивили меня тем, что с немцами объяснялись по-немецки, со мной — по-французски, с англичанами — по-английски. Только появление голландцев заставило вызвать переводчика. Икону они попросили развернуть. Напрасно я доказывал, что уже не смогу так аккуратно упаковать её, а ведь мне с ней предстоит ещё долгий путь в Москву. Меня вежливо, но твёрдо заставили показать образ. Пришлось рассказать и историю иконы, конечно, коротко и без подробностей.
В Петербурге я остановился в гостинице на Невском проспекте. Город меня не просто удивил, а поразил. В нем не было ничего русского, во всяком случае, московского — точно. Меня окружал прекрасный европейский город. Его никак нельзя было сравнить с теми городами, которые я помнил по Великому походу: со Смоленском, Можайском, Вязьмой, Гжатском и другими. Но об этом потом. Первым делом я разыскал monsieur Grégoire Volkoff. Это был какой-то важный чиновник и дальний родственник André. Передав ему письмо, я пообещал зайти к нему по возвращении из Москвы.
Из Петербурга я отправился в Москву на дилижансе. Так началось моё второе — уже мирное — путешествие à travers la Russie[Через всю Россию (фр.)]. Русские называют дилижанс lineyka, потому что сиденья в нём расположены в две линии. В Москве я услышал, что они называют его ещё nelejanka, а во множественном числе — nelejantsi. Это слово трудно перевести, но я попробую: лежанка — это выступ у большой русской печки, на тёплом кирпиче которого можно полежать, а нележанка — продольная лавка в дилижансе, на которой не полежишь. На ней можно только сидеть спиной друг к другу, поневоле задевая плечами соседей при движении. Хотя рядом со мной сидела хорошенькая девушка, которая при каждом удобном случае то медленно, то быстро и мелко крестилась, шепча молитвы. Кстати, она неплохо говорила по-французски, что немаловажно в такой ситуации. Потом в Москве мне рассказали, что из Петербурга в Москву и обратно можно добраться на тройке в карете (конечно, это заметно дороже), зимой же на санях, а в них можно не только полежать, но и вздремнуть, развалившись. Должен сказать, что добрались мы довольно быстро — за восемь суток с небольшим. Могли бы и быстрее, но в Твери сделали длительную остановку для отдыха. В сердце моём играла и переливалась радость. По мере приближения к Москве она только усиливалась. «Что это? — спрашивал я себя. — Не сегодня завтра навсегда расстанусь с иконой, а мне радостно». Лишь один раз на долю секунды мелькнула мысль всё же оставить икону себе, но тут полыхнул знакомый огонь, и оставил в душе непереносимую тоску, разъедавшую нутро. Спасла меня вновь молитва ко Святой Деве.
II
В Москве мне рекомендовали гостиницу у Покровских ворот, потом я посмотрел гостиницу Коппа «Север» и наконец решил остановиться в гостинице «Европа» в доме купца Часовникова на Тверской улице. Всё это заношу сюда с абсолютной точностью, поскольку на этот раз вёл в русской столице дневник. Я выбрал свой московский hôtel по ностальгической причине: этот дом, отличавшийся вычурным роскошным барочным фасадом, уцелел во время пожара 1812 года, и хорошо сохранился у меня в памяти. Теперь уже не могу припомнить, кто мне рассказал, что ранее здесь стояли палаты известного русского князя Гагарина, которого Петр I казнил, кажется, за лихоимство.
Итак, я снял две комнаты в гостинице с громким названием. Говорят, что здесь останавливался их знаменитый поэт Пушкин; о нём мне рассказывал André и даже читал его благозвучные стихи. Первым делом я нашёл старшего брата моего русского друга и передал ему второе письмо. Его звали monsieur Georges или Георгий Леонтьевич, если по-русски. Он ушёл в отставку в чине подполковника, что соответствовало гражданскому рангу коллежского советника. Не знаю почему, но он не любил, когда ему напоминали о его воинском звании, и при мне представлялся коллежским советником. Кстати, русские часто произносят свои имена на французский манер. Но André не напрасно приучал меня называть москвичей по имени-отчеству. Было заметно, что monsieur George оттаивал, когда я с моим парижским выговором не без труда произносил его имя-отчество по-русски.
Он принял меня довольно радушно, много расспрашивал о брате и скоро предложил переехать к нему. Я все же предпочёл остаться в своей «Европе». Однако мой русский язык оставлял желать лучшего, и я нуждался в гиде, в провожатом. Monsieur Georges предложил мне свои услуги, в том числе и свою двуколку для поездок за город. Оставаясь один, я предпочитал бродить по Москве пешком, но с моим новым знакомым мы нередко пользовались его маленьким экипажем с бордовой обивкой и откидным верхом зелёным изнутри. Каретой он пользовался почему-то редко, может, потому, что это было дороже.
Спустя пятнадцать лет я ездил и гулял пешком по Москве и не узнавал её. Даже Кремль казался незнакомым. Я не видел его после взрыва, потому что был тогда уже за Колочей, а потому не мог оценить масштабов перестроек и поновлений. Я только чувствовал: Кремль выглядит по-другому, хотя почти не изменился. В нём что-то неуловимо потеплело. Китай-город отстроили практически заново, появилось много каменных домов, заменивших деревянные. Но это всё не так важно.
Несколько раз Георгий Леонтьевич возил меня обедать к Яру. Говорю об этом потому, что дважды мне удалось увидеть там их знаменитого поэта Пушкина. По стихам, которые мне пытался читать в Париже André, я представлял поэта совсем другим. Но, понаблюдав за ним издалека, я оценил определение, которое дал Пушкину monsieur Georges: «Летучий и стремительный, как его почерк и стихи».
Я поведал Георгию Леонтьевичу историю иконы, присовокупив, что теперь хочу вернуть образ в тот храм, откуда его взял. Собственно, ради этого я и приехал. Мой новый знакомый был русским человеком, поэтому первым делом он предложил мне купить точно такой же образ в Иконном ряду и взять его с собой в Париж на память. Сам я ни в жизнь не додумался бы до этого. Мою тогдашнюю радость невозможно описать. В ближайшие же дни мы пошли в иконные ряды на Никольской улице возле Богоявленского переулка.
Никогда я не видел так много икон! Даже в храмах. Вокруг меня были иконы, иконы, иконы: разных размеров — от самых маленьких до огромных, написанных на любой вкус, подчас невероятных, немыслимых расцветок. Некоторые выглядели совсем древними, на других, казалось, ещё краска не просохла. Потом выяснилось, что так блестит олифа — специальный русский лак для икон.
Второе впечатление — бороды, настоящая коллекция русских бород. Кстати, и André, и его брат Georges брились, только Андрей Леонтьевич носил небольшие строгие усы, как Жан-Люк, а Георгий Леонтьевич — бакенбарды à la Henry Beyle[Наподобие Анри Бейля (фр.)] (не могу привыкнуть называть его Стендалем). Итак, вокруг меня была настоящая выставка бород: длинные и короткие, округлые и острые, широкие и узкие, кудрявые и прямые, раздвоенные и как бы слипшиеся, белоснежные и черные, как смоль, рыжие и белокурые, ухоженные и небрежные, густые и реденькие, подстриженные, как французский парк, и запущенные на вид — как парк английский. У меня просто не хватает слов, чтобы описать это «богатство» волос, скрывающее русский подбородок. Во время войны я не раз сталкивался с мужиками, например, с партизанами, о чём уже рассказывал, но тут бороды поражали именно своим количеством в одном месте и удивительным разнообразием.
Только потом я начал разбирать лица. Первое, что меня поразило, — добродушие (конечно, не без легкой хитрецы, как у большинства торговцев). Лица смотрели приветливо, и не потому, что хотели продать товар, а просто это их естественное состояние. Намёк на хитрость появлялся, только если мой провожатый по рынку начинал торговаться. Мы обошли ряды, я увидел несколько десятков икон Неопалимой Купины, все они походили друг на друга, но ни одна не совпадала с «моей» полностью. Всегда находились какие-либо детали, написанные по-другому или другими красками. Мне же хотелось точно такую икону. Наконец Георгию Леонтьевичу пришла в голову идея заказать копию образа у иконописца (русские называют копию — spissok). У одного из торговцев он взял адрес известного мастера: его образа понравились нам больше других. И мы отправились на поиски мастерской, благо она находилась недалеко от Заиконоспасского монастыря.
Мастер встретил нас почтительно, но с чувством собственного достоинства. У него было приятное худое лицо, светившееся изнутри. Такие как бы полупрозрачные лица я видел иногда в русских монастырях у монашек, а также на русских фресках и изредка на иконах. Тёмно-карие глаза смотрели задумчиво и во время разговора иногда уходили в себя, но наш иконописец тут же спохватывался, и во взгляд возвращалось внимание. Меня удивили его огромные руки, вернее, кисти рук: загорелые, в меру узловатые, с длинными пальцами и круглыми чёрными, видно, не отмывавшимися ногтями. Если бы их все же удалось отпарить и отчистить, они вполне могли бы сойти за руки музыканта — скрипача или пианиста. Из передней мастер провёл нас в ателье. У него была довольно светлая мастерская; в ней попахивало тухлыми яйцами, красками и ещё какой-то жидкостью с резким запахом. Потом мой гид и постоянный спутник объяснил, что иконописцы используют яичный желток как растворитель для темперной краски; отсюда и тухловатый запах, которого не избежать, особенно в жаркое время года. Ногти же они используют как палитру, то есть растворяют на них краски.
Фамилия нашего иконописца была Журов. Я её легко запомнил потому, что она как бы происходит от слова jour[День (фр.)], хотя это маловероятно. В переднем углу я сразу заметил маленькую икону Неопалимой Купины. Когда иконописец узнал, что я француз и образ предназначен для меня, он прошёл в красный угол и остановился там в раздумье. Позже Георгий Леонтьевич поведал мне, что он не хотел писать икону для иностранца, к тому же католика и француза, а Журов сражался с нами на той войне в ополчении. Все же monsieur Georges уговорил мастера и сделал это довольно просто:
— Ты напишешь икону для меня, а уж как я распоряжусь ей, — тебя не касается. Завтра принесём образ, с него и сделаешь список.
В голосе Георгия Леонтьевича иногда появлялись повелительные нотки: чин подполковника и навыки командира у него оставались весьма заметными.
Журов согласился, тем более что деньги, по словам Георгия Леонтьевича, мы предложили неплохие. На следующий день я перевёз икону в дом моего гида, мы осторожно сняли оклад, а икону передали Журову. Риза же осталась в комнатах моего нового русского друга, поскольку я опасался хранить её в гостинице целых четыре недели. Журов твёрдо сказал, что меньше чем за месяц он икону не напишет даже с подмастерьем. Когда выяснилось, что копию иконы надо ждать около месяца, я согласился переехать в особняк Георгия Леонтьевича. Там мне выделили две комнаты с отдельным входом со стороны сада, но, конечно, я мог пройти к себе и через парадный вход.
В моей комнате меня поразила больше всего икона Нечаянной Радости — Joie Inattendue. От неё повеяло таким же теплом, как от Неопалимой Купины, а маленькая фигура разбойника, припавшего к большой иконе в покаянии и молитве, приковывала к себе внимание. Однажды вечером Георгий Леонтьевич принёс книгу Димитрия Ростовского и прочитал мне об этой иконе интереснейшую историю.
Когда один нечестивый человек шёл на разбойное дело, он не забывал помолиться перед иконой! Можете себе представить? Человек идет грабить и, может быть, убивать, а перед этим молится, испрашивая помощи у Бога… Вот это вера! Однажды, когда он, как обычно, встал на молитву, то увидел, что из ран Младенца-Спасителя истекла кровь. Он в страхе воскликнул: «Матерь Божия, кто это сделал?» И услышал ответ: «Ты и такие, как ты. Когда вы грешите, то вновь распинаете Моего Сына, и святые раны Его открываются и кровоточат». Разбойник в страхе упал на землю и всю оставшуюся жизнь прожил в благочестии, молитве и покаянии. Кстати, таких красивых рассказов об иконах у русских очень много. О каждой иконе они могут поведать десятки историй, связанных с чудесами и исцелениями.
III
Не могу так же решительно, как Жан-Люк, сказать, что не верю в сны, скорее не знаю, как к ним относиться. В первую же ночь после переезда к Георгию Леонтьевичу я увидел сон. Мне виделось, что я стою на коленях перед иконой Неопалимой Купины в красном углу мастерской Журова и молюсь, не помню о чём. И вот образ отделяется от иконы и сходит ко мне на руки. При этом икона остается на своем месте в красном углу, то есть она как бы удваивается. Я прикладываюсь к ней лбом и чувствую тепло холодного серебра, как тогда, тридцать лет назад в Синайском монастыре Неопалимой Купины. Потом изображение уходит у меня из рук и словно растворяется в иконе в красном углу, однако в ладонях я чувствую всё ту же «мою» икону и даже вижу её. Внезапно в комнату входит благообразный Журов, два раза кивает мне утвердительно и повторяет несколько раз тихим голосом: «…Toi et tous ceux qui ne cessent de crucifier Mon Fils par leurs péchés…» Тут я замечаю, что в руках у меня уже икона Нечаянной Радости, и просыпаюсь.
Когда я поведал о своём сне Георгию Леонтьевичу, он задумался. Если бы это был какой-нибудь другой странный сон, я бы даже не стал рассказывать о нём никому, но в этом явилась икона, которая спасла меня. С ней связана вся моя жизнь. И не только моя, но и Мари-Анн, моих детей и даже Жана-Люка. Ради неё я приехал в далёкую Россию.
Больше всего в этом сне меня поразило то, что Журов сказал некую фразу на чистейшем французском языке. Мне даже захотелось точно узнать, говорит ли иконописец по-французски. Но представьте себе ситуацию: я спрашиваю Журова ради того, чтобы проверить свой сон! А если он спросит, зачем мне нужно это знать? Да это и не фраза вовсе, а лишь обрывок её, часть какого-то связного текста.
Под благовидным предлогом — не нужны ли деньги или какие-либо материалы для написания иконы — по моей просьбе мы с Георгием Леонтьевичем заглянули в мастерскую Журова. «Моя» икона стояла у окна, а помощник или ученик мастера с озорными васильковыми глазами (его, кстати, звали Василёк) наносил охристые красочные слои на белый грунт, они называют его левкасом. Мы поговорили немного, и мой провожатый мимоходом поинтересовался, не говорит ли Журов по-французски. Оказалось, нет, не говорит. Правда, помнит несколько слов из тех, что знает каждый русский, участвовавший в войне с французами.
На крыльце Георгий Леонтьевич проронил: — Во сне всё бывает, на то он и сон. Может, тут дело вовсе не во французском, а в чём-нибудь другом. Хотя я что-то читал об одном случае у вас во Франции, когда одна простая необразованная служанка во время болезни вдруг начала говорить на чистейшей латыни и даже своего хозяина называла curatus вместо кюре.
На следующий день я пошёл к Журову один. Сон так меня взволновал, что я никак не мог успокоиться. Я заговорил с ним по-французски, но было совершенно очевидно, что он ничего не понимает. Мастер недоумённо пожимал плечами и улыбался, вглядываясь в мой рот, словно пытаясь понять что-то по движению губ. И тогда, заговорив на ломаном русском, я неожиданно для себя заказал у него ещё одну точно такую же икону. Он, удивившись, пообещал выполнить заказ, призвав на помощь брата.
IV
Месяц прошёл быстро, потому что monsieur Georges не давал мне скучать. Я посетил не только знакомые места, но и те, где никогда не был. Много раз я заходил в храм Неопалимой Купины, из которого взял икону. Георгий Леонтьевич представил меня священнику — отцу Феодору. Он совсем не такой, как наши кюре или пасторы, но понравился мне с первого взгляда, как и Журов. У него было светлое белое лицо с весёлыми медово-карими глазами. Больше всего поражали в нем простота и естественность. С ним единственным забывалось, что я француз и иностранец. С ним я чувствовал себя дома, настолько он мог расположить к себе. В моей памяти, в душе он остался типичным русским человеком — радушным, гостеприимным, откровенным, искренним. Мы с Георгием Леонтьевичем рассказали отцу Феодору историю иконы, которую мой провожатый уже знал не хуже меня, поведали также, что заказали список с неё.
— Неисповедимы пути Господни, — сказал в конце нашего рассказа отец Феодор, — и милости Его бесконечны. Вы ведь совершили кощунство и грабёж, а Богородица не только сохранила вас, но и к Православию привела.
На последние слова я не успел среагировать, потому что он добавил:
— Один образ, значит, возвращаете на его законное место, а второй приносите в дар храму как покаяние… Хорошо-хорошо, — провёл прямой ладонью по своей серебристо-белой бороде отец Феодор.
Я старался не показывать своего удивления. Он всё решил за меня. Ведь он не спросил, а сказал утвердительно, что список я должен подарить в его храм. Но я-то об этом даже не думал. Сам не знаю, почему я заказал Журову второй spissok.
Вот такой был отец Феодор. Когда он что-либо говорил или советовал, ни у кого не возникало сомнений, что это именно так и есть, что точно это и надо сделать, что только туда и следует пойти. Я не помню, чтобы он надолго задумывался, чтобы он сомневался. Я не припомню, чтобы он делал попытки убедить кого-либо, я даже ни разу не слышал в его голосе уверенности. Она ему была не нужна. Его простота в общении с людьми и с Богом покрывала все. Вера и знание у него совпадали. Он просто знал, как надо поступить в том или ином случае. И это высшая простота вышней премудрости.
Когда ещё раз зашла речь об иконе, отец Феодор сказал:
— Когда будет готов список? В конце августа? Вот и хорошо, у нас как раз престольный праздник четвертого сентября. Накануне освятим обе иконы, а я пока место для них приготовлю.
Напомню, что четвёртого — это по их календарю, а у нас в тот день уже шестнадцатое сентября.
Тогда мне пришлось сказать, что икон не две, а три, и одну я хочу взять с собой. Отец Феодор сразу же одобрил моё намерение. На прощание он сказал:
— Кругом нас море Промысла Божия, мы купаемся в нём, а не чувствуем этого. Вы вот Марк-Матьё, а знаете ли, что у нас в храме есть придел во имя вашего покровителя — святого апостола и евангелиста Марка? Видите, как всё завязано в один узел. А вы пытаетесь развязать…
Последние слова я не совсем понял. Не доходят они до меня и сейчас.
Стоял конец августа. В Москве было малолюдно. Большинство москвичей разъехалось по имениям и загородным домам, но Георгий Леонтьевич оставался со мной и не жалел времени на экскурсии по Москве и окрестностям. Подозреваю, что André сообщил ему обо мне что-нибудь уж очень хорошее.
Денег на киот у меня не хватало, и отец Феодор сам позаботился об этом. Часть средств на два киота пожертвовал Георгий Леонтьевич.
V
День передачи икон в храм приближался. И тут я опять увидел сон: снова мастерская Журова, так же ко мне сходит копия образа, точно так же появляется кивающий Журов и в руках у меня оказывается образ Нечаянной Радости. Новое во сне оказалось то, что я со слезами целовал не Богородицу, а изображение человечка, который своими грехами довёл Спасителя до того, что из Его ран на иконе выступила кровь. Так со слезами на глазах я и проснулся.
Мне стало радостно и легко. Я уже знал, чтó хочу сделать. Скоро мы с Георгием Леонтьевичем оказались у Журова. Оба списка сияли красками, но олифой их ещё не покрыли. По дороге я поведал моему московскому провожатому о втором сне и сказал, что хочу, чтобы Журов написал на обеих списках Неопалимой Купины такого же кающегося разбойника, как на образе Нечаянной Радости.
— Что за странная фантазия, monsieur Ronsard?! Я поговорю с Журовым, но он вряд ли согласится. Вы должны знать, что иконы пишутся по канону. Если на Неопалимой Купине нет никакого человечка, значит, его не может быть.
Журов действительно удивился моей просьбе, переданной через подполковника и коллежского советника, и отказался дописывать образа. Подошли брат Журова Алексей и подмастерья. Все начали живо обсуждать мою просьбу в таком духе, что, мол, этому французику надо доходчиво объяснить: у каждого образа своя иконография и изменять или дополнять её могут только лица духовного звания. Да и то лишь соборно. Я почти всё понимал и не нуждался в переводе. Георгий Леонтьевич, как бы никого не слушая, подошёл к полке и взял в руки какую-то книгу. Я увидел, что это святитель Димитрий Ростовский: точно такую мы читали у него дома. Полистав страницы, он повернулся к нам и неожиданно встал на мою сторону.
— Ну, если не хотите дописывать иконы, я найду другого мастера, который это сделает не задумываясь, — по-командирски твёрдо сказал он, решительно захлопывая книгу.
Присутствующие замолкли. После недолгой тишины кто-то проронил:
— А ведь правда — их превосходительство найдут. И далеко ходить не надо. Вон в иконных рядах наши скорописцы ему за час состряпают всё что нужно.
Синеглазый ученик обратился к Журову — Силантий Иваныч, а можно я? И на вас греха не будет, и для меня упражнение.
Его брат подхватил: — Силантий, дозволь я вторую икону допишу? Ведь только перенести с одной иконы на другую. Что ж тут кощунственного? — И он взял в руки тонкую кисточку, как будто сразу же собирался приступить к работе.
Журов хмурился, поглядывал на иконы, смотрел в окно, обращал взгляд в красный угол и наконец строго промолвил:
— Только не в среднике, а на полях по-над видением Иезекииля.
Ученик с васильковыми глазами даже подпрыгнул от радости и хотел тут же взяться за дело, но Журов мягко осадил его:
— Успокойся, Василёк, за такое дело в волнении, будь оно радостное или скорбное, браться не подобает. Помолись, умири душу и только тогда берись за кисть. — И добавил, обращаясь к нам: — Потом олифить, и дня через три — милости прошу. Как раз к празд нику поспеем.
Так и случилось. Отец Феодор, увидев иконы, перекрестился троекратно и начал внимательно разглядывать их, как бы сравнивая образа, хотя первоначальный был уже в окладе. Георгий Леонтьевич нашёл нужным уточнить, что фигура кающегося человека на полях написана по моей просьбе. Казалось, священник не удивился, он только покачал головой и сказал:
— Всех по-разному привлекает к Себе Господь. И, бывает, такими окольными путями, что без Него там и заблудиться не диво.
После всенощной отец Феодор освятил все три иконы. Первая, сказал он, конечно, была освящена, но надо переосвятить, ибо побывала во многих нечистых, поганских руках. Он унёс иконы в алтарь, сказав, что возложит их на престол, а после Литургии на следующий день торжественно вынесет к народу и совершит с ними Крестный ход.
На службу четвертого сентября собралась «вся Москва», как выразился Георгий Леонтьевич. Народу пришло так много, что человеческий поток, шедший Крестным ходом вокруг храма, при желании опоясал бы церковь рядов в пять, а то и больше. И на соседних улицах стояли толпы, которые не могли приблизиться к храму. Должен был приехать и их епископ, но в последний момент что-то помешало ему, однако священников было не менее двадцати. Солнце по-детски играло в небе, сердце моё тоже играло и прыгало в груди, русские песнопения уносили меня в духовную высь. Я шёл за иконами, одна из которых была «моей», и мне хотелось танцевать от радости, как тогда с Мари на руках, когда возвращался от антиквара. Я чувствовал, что завершается какой-то важный период моего бытия и теперь начнётся иная жизнь, возможно, совсем-совсем другая.
Новенький образ Неопалимой Купины я поставил в своей комнате и не мог налюбоваться на него. Отец Феодор подарил мне на отдельном листочке краткую рукописную молитву, обращённую к этой иконе. Я хотел перевести её на французский язык, но потом начал читать перед иконой ровные строки, и мне так понравилось произносить чужие трудные слова, ведь молитовка оказалась написана не на русском, а на церковнославянском языке.
Однако мне было пора собираться в Петербург. И Париж тоже давно ждал меня. Уезжать не хотелось.
Когда прощались с отцом Феодором, я со всей искренностью сказал ему:
— Если б вы знали, отец Феодор, как мне не хочется уезжать от вас!
— А вы примите Православие, — просто сказал он. Он не предлагал мне перейти в Православие, он как бы утешал меня. Примите Православие, и Россия всегда будет с вами — так я понял его слова.
До сих пор не могу простить себе малодушия. Я сказал в ответ, что мне надо подумать. Не знал тогда и сейчас не знаю, о чём надо было думать. У меня была такая возможность совершить главный и самый решительный поступок в жизни, а я испугался.
— Я приеду в Россию ещё раз, отец Феодор, и тогда…
— Не приедете, — сказал он уверенно и просто совсем не обидным тоном. — Не приедете, — повторил он. Затем взглянул на меня ласково и погладил мою грудь напротив сердца.
Отец Феодор оказался прав. В Париже меня завалили заботы о семье и средствах к существованию, потом я узнал от уезжавшего на родину André, что отец Феодор скончался на праздник своего святого покровителя великомученика Феодора Стратилата. Я не забывал ежевечерне читать перед иконой Неопалимой Купины молитовку на церковнославянском языке. Но жизнь моя, как вы знаете, пошла не совсем так, как хотелось бы, и поехать в Россию ещё раз мне не довелось. Да, homo proponit, sed Deus dis-ponit — человек предполагает, а Бог располагает, как говорит древняя мудрость.
Не помню, где именно я писал в своих заметках, что в той войне русским помогал верный и сильный союзник — их ледяная зима. Теперь-то я знаю, что не мороз стал их главным союзником, а Бог! Мы никак не могли победить, ибо Господь и все ангелы небесные были на их стороне. А нашего императора они считали антихристом, впрочем, я уже говорил об этом. Мы сражались против невидимой силы Божией и проиграли. Слава Богу, что Он спас меня, и я смог поговорить со своими наследниками и потомками в этих несвязных заметках.
Я уже старик. Оглядываясь назад, многое вижу по-другому. То, что казалось случайным, выглядит совсем иначе. Что-то поразительное чудится мне теперь во всем происшедшем. Ведь я совершил кощунство? Или нет? Иногда у меня такое чувство, что Пресвятая Дева Сама выбрала меня, позволила взять Себя, подтолкнула меня к этому. Но зачем? Чтобы спасти меня на Березине? Чтобы показать чудо в Новодевичьем монастыре? Чтобы вразумить Ганса? Чтобы помочь Жану-Люку оставить вредную привычку? Вопросы, вопросы, вопросы…
И ещё верится: если бы икону взял кто-то другой — она могла погибнуть. А так — с почётом вернулась на своё место. И список с коленопреклонённым грешником, говорят, полюбился прихожанам.
Всё чаще я вспоминаю, как мы с Жаном-Люком поднимались на колокольню святого Иоанна Лествичника. Предстаёт перед взором синайская икона с изображением восходящих по лестнице монахов. Иногда неясно видится, как я сам ступаю по этой лестнице, но какой-то неуверенной поступью: два-три шага вверх, а потом вдруг шаг вниз. Богородица в пылающей Купине на верхней ступени будто призывает меня к Себе, а я оглядываюсь зачем-то по сторонам, теряю равновесие, срываюсь с лестницы и мягко падаю на землю. И уже нет сил начать новый подъём. Лишь возлагаю на себя крестное знамение, а в глазах расплывается от слёз охваченный красным огнём зелёный куст…
Почему-то думается, что только тогда душа моя успокоится, примирится с собой и с Богом во Царствии Его, если кто-нибудь из моих потомков, пусть через сто или двести лет, окажется в России, полюбит иконы, храмы, долгие службы и примет Православие.
Берегите икону Неопалимой Купины, почитайте её, молитесь перед ней, и Пресвятая Дева Мария будет хранить вас. Да покроет Благодать Божия весь наш род. Beatæ Mariæ semper virgini, orare pro nobis ad Dominum Deum nostrum! Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheur, à l'heure de ma mort![«Всеблаженная Мария, Приснодева, молите Господа Бога нашего о нас!» (лат.) «Пресвятая Мария, Матерь Божия, помолитесь обо мне, бедном грешнике, в час смерти моей!» (фр.)] Слава Богу за всё!
Леонид Иванович Соломаткин – Крестный ход

Популярное видео
-

Для всех маловерных и многопопечительных. Игумен Никон Воробьев.
Громовы Валерий и Людмила · 307 просмотров -
22:36

Без цензуры. Старец Адриан (Кирсанов).
Сергей Серюбин · 1272 просмотра -

Евангелие и Святые дня. Апостольские чтения. Неделя о блудном сыне. (20.02.22)
Громовы Валерий и Людмила · 892 просмотра





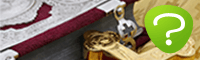
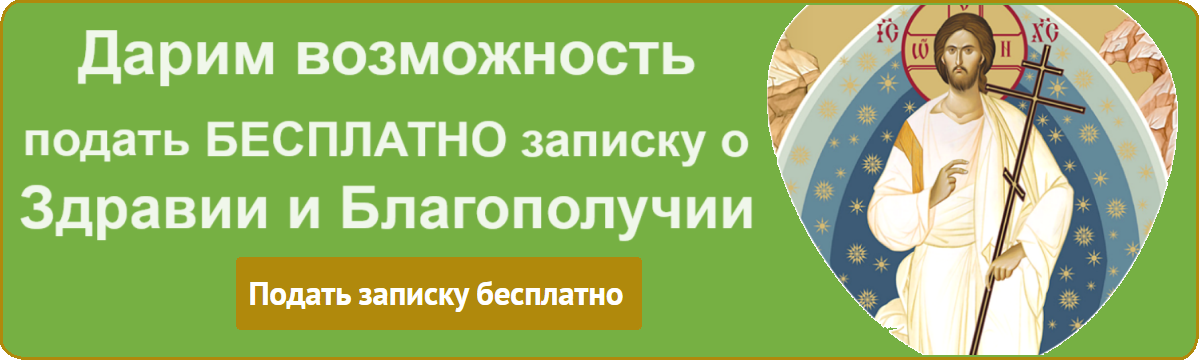





Эпилог
На этом оканчиваются записки Марка-Матьё Ронсара, вернее, мой перевод его рукописи.
Осталось сказать, что после двух лет переписки и кратких встреч Николетт стала моей женой. Живём мы в Москве. Ходим в храм святого Иоанна Воина на Якиманке, что напротив Французского посольства. «Нашу» церков...
Развернуть
Эпилог
На этом оканчиваются записки Марка-Матьё Ронсара, вернее, мой перевод его рукописи.
Осталось сказать, что после двух лет переписки и кратких встреч Николетт стала моей женой. Живём мы в Москве. Ходим в храм святого Иоанна Воина на Якиманке, что напротив Французского посольства. «Нашу» церковь выбрала Николетт. Ждём ребёнка. Над его именем долго не думали: будет Матвейкой в честь далёкого предка. Николетт пытается сделать обратный перевод с русского на французский «Записок» своего прадеда. Покоробившаяся, с размытыми страницами рукопись лежит у нас на книжной полке. Николетт хотела оставить её в Париже, но я уговорил привезти в Россию. Теперь надеемся, что современная техника поможет хоть что-нибудь восстановить. Рядом с ней лежит молитвенник Марка-Матьё и двухтомник французского историка Лакретелля-младшего, вышедший в 1810 году. Книга посвящена истории Французской революции, и в ней есть пометки Марка-Матьё в тех местах, где критически говорится о Наполеоне. Вот что осталось нам в наследство от французского офицера, нашего предка.
Мы надеемся, что Николетт всё же переведёт мой перевод на французский (каково звучит — «переведёт перевод»!), и мы впишем его в посиневшие от воды и чернил листы утраченных «Записок». И главное: после долгих мытарств и хождений в Министерство культуры Франции Николетт всё же получила разрешение на вывоз в Россию иконы Неопалимой Купины. Не оставлять же её там! Ведь моя Николетт — последняя в роду Ронсаров. Теперь образ стоит в красном углу и согревает нас тихим мягким и тёплым духовным сиянием. Друзья говорят, что надо бы пожертвовать икону в храм. Но куда? Церковь Неопалимой Купины большевики закрыли в 1928 году, а через пару лет снесли. Сколько же уничтоженных храмов на их совести?! Теперь там безликий скверик. Даже и место-то не использовали! Может, когда-нибудь и восстановят храм Неопалимой Купины на Девичьем поле. Три Неопалимовских переулка постоянно напоминают о нём.
А маленький человечек, задуманный Марком-Матьё Ронсаром, всё так же стоит коленопреклонённый на полях образа и покаянно молится за себя, за нас и за весь род людской.
Свернуть
Москва. Церковь Божией Матери иконы Неопалимой Купины близ Девичьего поля.
1882 год
Угол 1-го и 2-го Неопалимовских переулков, вид на церковь.