

- Лента
- |
- Участники
- |
- Фото 301
- |
- Видео 97
- |
- Мероприятия 0
Не опали меня, Купина. 1812 Василий Костерин (продолжение )
IV
За всё время пребывания в Москве я видел Наполеона лишь два раза: в Кремле и в Новодевичьем монастыре — новом монастыре для девиц, так можно перевести его название. Оно объясняется тем, что раньше у них уже был монастырь под названием Devitchiy.
Нам поручили устроить в монастыре склад для продовольствия и фуража. Мне выделили келью в стрелецкой караульне при Напрудной башне. Рассказывали, что в ней была заточена сестра их знаменитого царя Петра Первого — София. Кстати, с верха этой огромной круглой башни хорошо видна Mojaïyka — дорога на Можайск, в который мы вошли через два дня после битвы при Москве-реке. Жан-Люк оказался тоже в обители, но по другому ведомству: он досматривал боеприпасы.
Мы заняли практически все помещения за исключением собора. Монахиням оставили только пять келий, а может, даже три-четыре, не помню. Склады под провиант я подыскал быстро, приказал их очистить и подсушить, потому что влажность в подвальных залах была повышенная. Однако я не просто удивился, но поразился отсутствию в них мышей и крыс.
Всё, что свозили в монастырь, размещали в разных подвалах. Скоро количество запасов вполне удовлетворило нас. Русские измеряют объём сыпучих тел четвертями. По моим подсчётам, это чуть больше двухсот килограммов. Итак, пшеницы, как они сказали, имелось у нас пятьсот четвертей в подвале большого собора, двести четвертей ушло в одну башню, расчищенная конюшня на четыре стойла также была забита пшеницей. Дрова из подвальных помещений вынесли на улицу, а там поставили лошадей. В монастырь свезли достаточное количество муки, овса, ржи и, главное, вина. В подклети красной церкви собрали триста четвертей картошки и несколько десятков бочек капусты.
Пшеничных и овсяных необмолоченных снопов набралось так много, что их клали прямо на паперти собора Smolensky. Я не успел узнать, почему он так называется. Казалось, в России Смоленск встречал или провожал нас повсюду: и в продвижении на Москву — в виде крепости, и в дороге, которая называется у них Smolenskaya, и в виде иконы, ради которой они, жертвуя жизнью, отбивали город скую башню, и в виде собора уже здесь, в двух льё от Москвы. Он, кстати, немного похож на Успенский собор Кремля. Впрочем, многие древние церкви у русских похожи одна на другую, а вот новые — разнятся.
Многие офицеры и даже солдаты привезли с собой маркитанток, походных жён и любовниц. Русские очень смешно называли их с пренебрежением mamzelki, так что мы тоже скоро стали называть наших спутниц — mamzelka. Трудно в этом русском слове узнать французское mademoiselle. Ясно, что русские не одобряли подобное сожительство, впрочем, они просто не понимали, что такое маркитантка или походная жена.
В монастыре жили также наши музыканты: полковой оркестр и конные трубачи. Однажды утром я наблюдал такую сценку: музыканты выстроились для репетиции на длинной паперти Успенской церкви. Они называли её Trapeznaya. Перед каждым музыкантом стояли по-разному одетые русские детишки и держали ноты. Забавная и живописная картина! Вообще, в обители было довольно много детей, наверное, они потеряли родителей и монахини приютили их.
Ещё одним развлечением для обитателей монастыря служили регулярные переклички. Правды ради надо сказать, что дезертирство усиливалось с катастрофической быстротой. После очередной переклички мы иногда недосчитывались десяти-пятнадцати, а то и двадцати человек. Правда, некоторые возвращались. Потом оказывалось — они уходили на денёк помародёрствовать в Москву.
И тут прошёл слух, что в монастырь пожалует сам император. Мы удивились, смутились и обрадовались. Удивились, потому что в Москве у императора, казалось, и без нас немало проблем. Смутились, потому что смущение одолевает подчинённых при всяком появлении высочайшего начальства. Обрадовались, потому что своей энергией и уверенностью в победе император способен поднять дух любого солдата и офицера. А мы уже нуждались в поддержании боевого духа и надежды на благополучный исход нашего рискованного предприятия.
Скажу пару слов о монастыре. Я видел в русской столице несколько обителей. Эта подмосковная — была самой красивой. Её воздвигли в нескольких льё от Москвы. Особенно меня удивили стены. Даже не знаю, с чем их сравнить. На Синае крепостные стены поражали мощью, высотой, толщиной, здесь же издали круглые угловые и остальные квадратные башни вместе со стенами казались тонкими, лёгкими, узорчатыми, как игрушечный детский замок или огромный торт с бордово-белым кремом по краям. И лишь вблизи человек понимал, что имеет дело с укреплением, которое при необходимости способно выдержать долгую осаду. Однако замечу, Кутузов бросил на произвол судьбы и эту обитель.
Из-за башен и стен выглядывали типичные русские храмы с золотыми и цветными куполами. Монастырь стоит на берегу большого пруда, так что с одной стороны (кажется, с западной) у него есть неплохая естественная защита. Через много лет я побывал там ещё раз.
Итак, наш император прибыл в монастырь в сопровождении Старой гвардии и небольшой свиты человек из сорока. Я был удивлён ещё и тем, что император вникает в такие мелочи, которые, на мой взгляд, недостойны масштабов его величия и власти. Неужели он придавал настолько большое стратегическое значение монастырю? Правда, обитель стоит на знаменитой и важной Смоленской дороге, но ведь ясно, что в Москве мы не задержимся и оборонять её не придется. Тем более, со стороны разрушенного Смоленска. Однако факт остаётся фактом: император решил лично осмотреть монастырь. Возможно, думал я, он хочет увидеть знаменитую обитель своими глазами? Но наш повелитель даже не спешился. Не слезая с коня, он объехал вокруг двух самых больших церквей, потом отдал кое-какие приказания и неторопливо покинул монастырь. При этом его оценивающий взгляд ясно говорил, что он не замечает архитектурных находок и красот, а также своеобразной экзотики русского зодчества. Он послал одного из адъютантов осмотреть выбранные мной помещения для складов. Потом, обратившись к начальнику монастырского гарнизона, приказал пробить в стенах бойницы, чтобы можно было выставить в них орудия. Врата, за исключением северных, по его повелению заложили брёвнами и засыпали землёй до самого верха. Напротив единственных оставшихся врат разместили батарею из шести пушек, чтобы в случае разрушения ворот и атаки через них ударить по врагу прямой наводкой. Горячей картечью.
Уже выехав из монастыря, император обратил внимание на церковь, стоявшую вне ограды напротив ворот. Немного подумав, он приказал снести её. Иначе, коротко пояснил он, противник может использовать её в качестве наблюдательного пункта или укрепления для осады монастыря. После его отъезда церковь взорвали наши сапёры.
Перед тем, как разрушить храм, из него вынесли все иконы и сложили их снаружи у входа в монастырь. Монахини не успели разобрать образа и расставить в храмах, а может, побоялись. И вот из этих икон солдаты наскоро вытесали круги под гнёт для бочек с шинкованной капустой. Заглядывать в такие бочки было так же страшно, как и в Симоновом монастыре: если не глаза, то непонятная старинная надпись, крест или рука, просвечивая из-под рассола, напоминали о первоначальном предназначении досок. В одной кадке за бордовым камнем, служившим гнётом, полупрозрачно переливался серебряным цветом меч в руке какого-то святого воина. Забыл сказать, что иконы солдаты околачивали обухом, чтобы краска вместе с белым грунтом осыпалась, но делали это наспех и небрежно: фрагменты изображений на многих кругах оставались.
Думаю, не надо быть Наполеоном, чтобы отдать подобные приказы и принять указанные им меры. С этим справился бы любой мало-мальски опытный офицер, если поставлена задача превратить монастырь в крепость. Или же он боялся, что сама голодающая Великая армия решится напасть на монастырскую житницу и разграбить её?
Наполеон быстро уехал, а я так и не понял, зачем он приезжал. Если бы он каждый раз вникал в такие подробности, то у него не хватило бы времени ни на разработку стратегических военных планов, ни на управление прекрасной Францией, куда он каждый день слал депеши, ни даже на отдых и сон. В общем, с нашим императором творилось что-то не то. Даже в его посадке на коне чувствовалась какая-то бесконечная усталость, обречённость, а в глазах и в лице проглядывал мрачный демонизм. И это сочетание изнеможения и некой одержимости производило странное и пугающее впечатление.
Когда император отбыл в Москву, мы сразу же взялись за дело. Жан-Люк оригинальным образом принял участие в превращении монастыря в крепость. Когда солдаты начали пробивать в стене отверстия для пушек (в тех местах, на которые указал император), Жан-Люк вмешался не в своё дело и предложил сделать бреши в нишах, чтобы долбить стену в самом тонком месте. Дело в том, что у русских в крепостных стенах изнутри сделаны ниши, которые они называют petchura. Эти печуры, по предложению Жана-Люка и были пробиты насквозь. Так мы сэкономили силы, время, да и монастырь потерпел меньше ущерба. Над главным входом в надвратной церкви также пробили отверстия и поставили две пушки жерлами вниз — на площадь перед вратами.
V
Я побоялся оставить икону в Москве у себя в особняке и взял её в обитель. Конечно, я не показывал своё сокровище кому попало, и образ почти всё время пролежал в моём походном сундуке. Только вечером, когда я оставался один или вдвоём с Жаном-Люком, я доставал образ Святой Девы и ставил на стол, прислонив к стене. Мой боевой друг подшучивал надо мной, говоря, что икона околдовала меня, что я медленно и верно становлюсь идолопоклонником. Я не обижался, зная, что до идолопоклонства ещё ох как не близко. Но когда я находился далеко от иконы или же она отдалялась от меня, мне было не по себе, это правда. И Жан-Люк не без добродушия подметил мою слабость.
Ах да! Чуть не забыл рассказать про упомянутый Симонов монастырь. Там мы устроили хлебный склад. Мои обязанности заключались в размещении зерна в сухих помещениях. Русские хранят зерно просто россыпью на деревянных поддонах, получается целая гора зерна. Мы же привыкли держать его в ящиках. И вот как-то в Симоновом монастыре я инспектировал запасы зерна, перебирал, пересыпая его в ладонях. Вдруг из неполного ящика на меня глянули большие чёрные, с яркими белками, глаза. Я даже отшатнулся. Повернувшись к другому ящику, я разгрёб пшеницу и увидел скорбные глаза Девы Марии, которые как бы говорили: что вы со Мной сделали, несчастные! Оказалось, что ящики для зерна сколотили из икон. А где ещё взять совершенно сухие доски? Это я понимал. Но вот по ночам несколько раз просыпался со страхом: на меня смотрели в упор, как живые, грозные очи Христа или скорбные глаза Пресвятой Девы.
С первого взгляда иконы мне не понравились. Или я это уже говорил? Однако я никогда не одобрял варварского отношения к ним. Мы называли варварами русских, но сколько разноплемённых самых настоящих варваров прилепилось к Великой армии! С началом пожара в Москве они показали себя во всей красе. В них как будто проснулся инстинкт грабежа и разрушения. Это коснулось и икон. Святые образа использовали для стрельбы по мишеням, целясь по очереди в глаза, в лоб, в уста. Из икон сколачивали обеденные столы, потому что столов всегда не хватало. В Новодевичьем я видел, как самую большую икону, на которой в отдельных квадратах было изображено много небольших образков Девы Марии с Младенцем, сняли со стены, приделали короткие ножки из бруса и превратили в обеденный стол. О том, что иконы использовали на растопку, можно уже и не говорить, — это делалось как бы само собой. В огне иконы пылали не хуже русской берёсты. Хотя, как я слышал, у них есть поверье, что иконы не горят.
В монастыре я придумал для себя оправдание. Зачем им столько икон? Ну, взял я одну на память. Ну и что? У них же все церкви забиты этими иконами. Вот и в этом монастыре полно икон. У русских не убудет… А мне и радость, и тепло, и память. Значит, уже тогда, ещё в Новодевичьем, меня подтачивала совесть.
Там же я чуть не потерял свою икону — в первый раз. Случилось так, что однажды я забыл запереть свою келью, и, когда вернулся, обнаружил, что сундук мой перевёрнут, часть вещей пропала, а с ними — образ Святой Девы. Мы с Жаном-Люком не знали, что думать. Сначала предположили, что икону взяли монашки. И на их стороне как бы была правда: икона-то из церкви. Но мы тут же забраковали эту догадку, поскольку насельницы обители вели себя робко и пугливо, они не посмели бы войти в комнаты, занятые офицерами. Оставались наши солдаты. Я бегал, как сумасшедший, по монастырю, разговаривал с командирами, беседовал с солдатами. Я очень торопился. Мне казалось, что икону ещё не вынесли из монастыря. Если же её вынесут, чего я больше всего боялся, — пиши пропало. Найти её станет невозможно. Поиски мои, вернее, только попытки поисков, закончились безуспешно.
В расстроенных чувствах я лёг спать поздно вечером, и мне приснился некрополь. Что кладбище — русское, сомнений не было. У них оно выглядит совсем по-другому: во-первых, бросаются в глаза восьмиконечные кресты, среди них есть мраморные, но много деревянных с двумя планками в форме домика вверху; на крестах часто видны медные иконки и стеклянные фонарики, в которых можно зажечь лампаду. Во-вторых, у них на кладбищах больше зелени, однако не хватает стройных аллей и порядка. В целом они просторнее наших: видно, что русские не жалеют места и земли для усопших.
На следующий день я опять бегал по монастырю и искал свою икону. Вместе с Жаном-Люком мы обошли монастырь снаружи, начав с берега пруда. Не знаю, на что я надеялся. Прогуливаясь по монастырю после обеда, я увидел подозрительную сцену. По ту сторону решётки северных ворот стояли, судя по мундирам, двое наших и, кажется, поляк. Они пытались в чём-то убедить двух русских штатных служителей, стоявших по эту сторону врат. Chtatniye, как я потом разобрался, являлись пожилыми слугами монастыря, которые выполняли мужскую работу. Вполне возможно, что именно их дети служили по утрам живыми пюпитрами для наших музыкантов. И вот я увидел, как, посовещавшись, французы перебросили через решётку какой-то кулёк. Всё это показалось мне подозрительным. Как только штатные двинулись к певческому корпусу, я остановил их и потребовал показать содержимое кулька. Обычно их нанимали из крестьян или солдат, поэтому я призвал переводчика поляка, которыми командовал майор Задера, впоследствии мы с ним подружились. Оказалось, что стоявшие у решётки французы попросили взять на хранение свёрток, не объяснив, что именно находится в нём. Штатные после кратких прений на языке жестов согласились взять кулёк. Когда мы развернули грязное покрывало, я был поражён: в нём оказался смятый золотистый оклад — почти точно такой, как на моей иконе. Большая часть драгоценных камней выпала, но оклад продолжал сверкать лицевой позолотой и тыльной матово-серебряной стороной. Что было делать? Конечно, я отпустил штатных, указав им на храм, и проследил, чтобы они отнесли смятый чуть ли не в рулон оклад в красную Успенскую церковь. Как я узнал потом, французы так и не вернулись, чтобы потребовать оклад обратно. Тогда я не разглядел в этом маленьком событии какого-то особого знака, но потом странный случай всё чаще вспоминался мне. Однако никаких выводов я так и не сделал.
Ночью мне снова приснилось кладбище. На этот раз я его узнал: это были захоронения у стены монастыря на южной стороне. По моему предложению мы с Жаном-Люком после завтрака прогулочным шагом отправились туда. Правда, я не сказал своему другу о цели нашего посещения умерших или, скорее, беспокойства, которое мы причинили их душам. Приблизившись к кладбищу, мы увидели несколько монахинь, которые о чём-то оживлённо разговаривали, стоя возле одной из могил. Среди них была и монахиня Сарра, которая руководила монастырём; именно к ней я обращался в своих интендантских хлопотах. В России, встречая образованных людей, мы почти никогда не нуждались в переводчиках: большинство говорило по-французски. Мы подошли к могиле, при этом я споткнулся о какую-то кучу подсохших веток, лежавшую между невысоких холмиков. Тут мы узнали, что один благотворитель монастыря завещал украсить свою могилу терновым кустом. Его посадили ранней весной и заботливо поливали, но он медленно погибал. Когда поняли, что растение не спасти, сажать новое было уже поздно — стояло лето. Решили высадить в следующем году другой. Куст, казалось, засох окончательно, но сегодня, говорили монашки, он не только зазеленел, но и расцвёл белым цветом. В конце сентября!
В засохшем виде мы куст не видели, а потому Жан-Люк отнёсся к рассказу скептически. Я же, глядя на светлые лица, обрамлённые чёрными платками, на смущённые улыбки и сияющие глаза монашек, ухватил долю их радости. Даже если тёрн и не засыхал, как нас уверяли, то теперь-то он действительно цвёл, а на дворе стояла ранняя осень.
На третью ночь, уже ожидаемо, мне привиделось кладбище, хорошо знакомое по предыдущим двум снам и по прогулке между могил. В этот раз над холмиком, там, где мы видели цветущий куст терновника, сиял нежный прозрачный столб лёгкого пламени, который уходил ввысь и растворялся в воздухе. Утром, ни свет ни заря, не разбудив Жана-Люка, я бросился на погост. Могилу, виденную во сне и въяве, я нашёл сразу: в лучах раннего солнца она выглядела немного таинственно, а куст над ней, не шелохнувшись, стоял, как белый часовой. Я остановился и обратил внимание на несколько свежих комочков земли и кучу хвороста, совсем не к месту лежавшую с левой стороны могилы. Отбросив сапогом сухие ветки, я тут же увидел слегка примятую лопатой землю. Дальнейшее не представляло труда. В лихорадочно-радостном нетерпении, стоя на коленях, ломая ногти, я разгрёб землю и обнаружил завёрнутый в какое-то покрывало свёрток. Ну а в нём — мои вещи и икону Девы Марии! Засыпав неглубокую яму, я забросал её, как было, хворостом, с наслаждением втянул в себя легкий утренний запах цветущего терновника, с благодарностью погладил тонкий ствол[32] и, прижимая к груди обретённый образ, холодный, пахнувший землёй и свежестью, едва ли не вприпрыжку бросился в свою башню.
Я рассказал Жану-Люку о счастливой находке, но лишь коротко, умолчав, конечно, о снах. Он предложил организовать засаду на кладбище, чтобы поймать вора у тайника, но я пребывал в такой радости, что в тот же день переехал в Москву в особняк княгини. Там моя икона находилась в большей безопасности. К тому же приказ штаба мы выполнили, и никакой нужды в нас у монастыря-хранилища не предвиделось.
VI
Перед отступлением из Москвы я бережно завернул образ в кусок бархатной портьеры и положил в походный, видавший виды сундук. Она легко уместилась в нём, а я старался не спускать с него глаз. Не потому, что я боялся кражи, тогда нам было уже не до трофеев — спастись бы самим. Просто вид сундучка согревал моё сердце, а через сердце — и тело. К тому же у меня имелась своя небольшая повозка. У генералов же и маршалов были кареты и целые обозы.
Пожалуй, здесь стоит рассказать ещё об одной иконе. Опять воспользуюсь заметками Жана-Люка.
«От лейтенанта Ложье, который, несмотря на свою бесспорно французскую фамилию, был итальянцем и служил в корпусе генерала Эжена Богарне[33], мы с Марком-Матьё узнали однажды следующую историю, связанную с иконой. После Бородино корпус Богарне в Можайске отделился от основной армии и через Рузу двинулся на Звенигород. Под стенами монастыря он принял бой, на шесть часов задержавший его продвижение вперёд. После отступления русских Эжен Богарне остановился, как обычно, в монастыре. Это была Саввино-Сторожевская мужская обитель, основанная, кажется, ещё в четырнадцатом веке. Вице-король Италийский занял несколько комнат в царских палатах. Говорили, что русские цари любили монастырь, приезжали туда на охоту, и внутри для них выстроили отдельные здания для мужчин и для женщин.
Солдаты рассеялись по обители и набросились на очередную добычу. Впрочем, как и мы в Москве. В монастырях есть чем поживиться. Если монахи успевали спрятать казну и очистить ризницу, то иконы в храмах обычно оставляли, а ведь бóльшая часть их образов вставлена в золотые и серебряные оклады, украшенные ещё и драгоценными камнями.
И вот в тот ли день или в другой вице-король Эжен прилёг отдохнуть в своей комнате-келье. И вдруг видит, как беззвучно открывается дверь и в его комнату неслышными шагами входит благообразный старец с седыми волосами и светлым ликом. Генерал не мог понять, наяву или во сне это происходит. От изумления он приподнялся на локте со своего ложа, а старец тихо проговорил: „Повели своим солдатам не расхищать обитель. Если исполнишь сказанное, Господь помилует тебя, и ты возвратишься в своё отечество целым и невредимым“. И старец исчез, как бы растворившись в полумраке кельи. Генерал Богарне не смог больше спать. Он оделся и вышел во двор. Стоял поздний сентябрьский холодноватый вечер. Четвертушка луны сияла далёким и слабым серебристым светом. Солдаты жгли дымные костры, обменивались впечатлениями, хвастались добычей. Гене рал задумчиво рассматривал монастырь с высокого крыльца одной из церквей. Вернувшись к себе, принц Евгений, как его часто называли, попытался заснуть, но до самого утра ворочался на постели не в силах забыть явление благообразного старца.
Утром Богарне начал осматривать наполовину разграбленные храмы. И вот в их главном соборе возле раки с мощами он увидел большую икону. Лик изображённого на ней как две капли воды походил на явившегося поздним вечером благообразного старца. Сон становился явью: ночной гость не привиделся. Это был святой основатель монастыря Савва Сторожевский, как объяснили уцелевшие монахи. Вице-король пребывал в изумлении. Он приказал остановить грабёж монастыря, вернуть всё, что уже было отнято, и выселил солдат из обители, оставив только штаб и адъютантов. Солдаты выказывали недовольство, но под ворчание и ленивое поругивание выполнили приказ, разбив палатки под монастырём. Среди них также прошёл слух, что генералу было какое-то явление или видение. Одну из икон святого Саввы Сторожевского вице-король пожелал взять с собой, и она сопровождала его в походах».
Теперь откладываю Жана-Люка и беру слово. Дальнейшее вы знаете: генерал Богарне участвовал со своим корпусом во всех самых важных сражениях и ни разу не был даже ранен, тогда как едва ли не все другие маршалы и генералы Наполеона пострадали: или убиты, или расстреляны[34]. Вот так. Жаль, Александру Дюма не пришло в голову написать роман на эту тему, а ведь она достойна его пера, тем более что у неё есть продолжение.
Не так давно до меня дошёл слух, вернее, письмо от моего друга André. Он сообщал, что два года назад, в 1839 году, в Москву приехал младший сын Евгения Богарне — Максимилиан, герцог Лейхтенбергский. Первым делом он отправился в Саввино-Сторожевский монастырь, чтобы поклониться мощам святого Саввы. Об этом его просил отец. В том же году герцог принял Православие и просил руки великой княжны Марии Николаевны, дочери Николая I. После свадьбы молодые поселились на Невском проспекте. André сообщал также, что в видении благообразный старец сказал Эжену Богарне ещё одну важную вещь: «Твои потомки послужат России». Так и получилось: герцог Лейхтенбергский получил титул князя Романовского и служил новому отечеству, как бы в благодарность за отца[35].









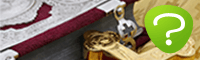
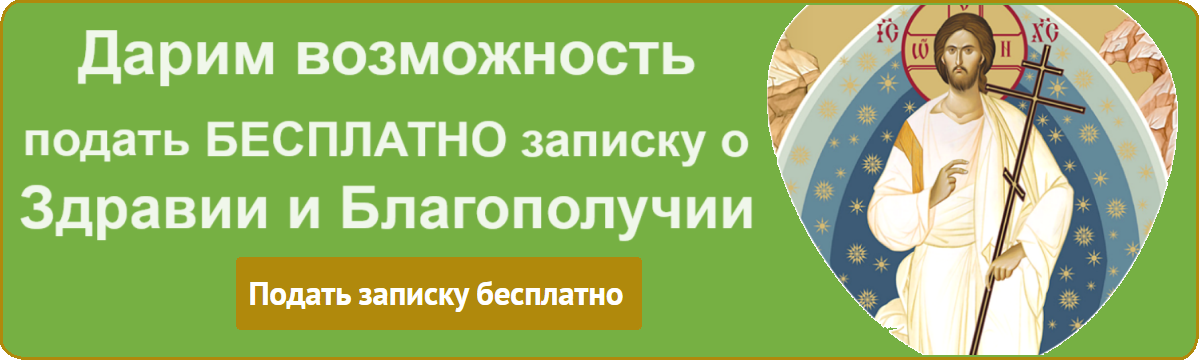





Вид монастыря святого Саввы Сторожевского
Симонов монастырь.
Новодевичий монастырь. 1852
Дурные вести из Франции - Верещагин В.В.