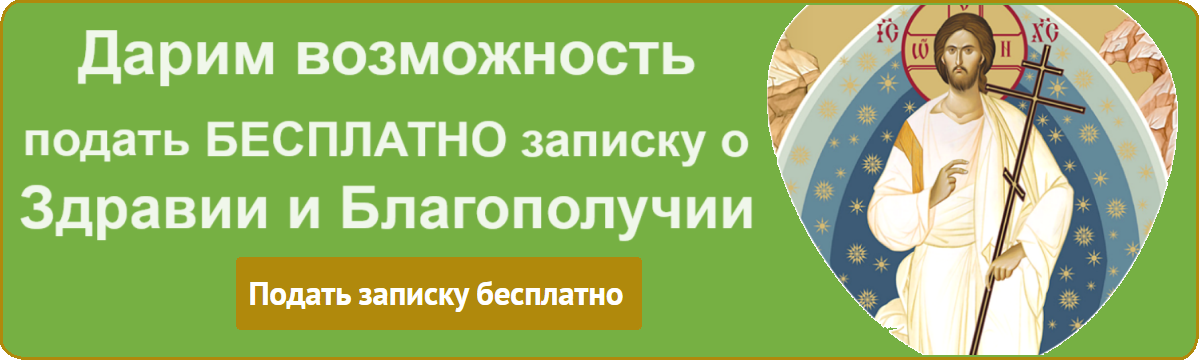- Лента
- |
- Участники
- |
- Фото 99
- |
- Видео 24
- |
- Мероприятия 0
Беседа с настоятелем Успенского храма в Ивангородской крепости игуменом Довмонтом (Беляевым)
Евангелие от Сан Саныча
– Отец Довмонт, как началось ваше знакомство с Богом?
– Как бы сказать… Втихаря. Брат дал мне почитать Евангелие от Матфея. В советские годы Библия, Евангелие были не просто редкостью – это были книги вообще из другого мира. Мое Евангелие – это было такое дореволюционное издание на двух языках: на славянском и на русском. Я был тогда подростком, и, как мне кажется, тогдашнее молодое поколение лучше умело читать и ценить прочитанное, чем сегодняшнее. Вот я и читал, впитывал в себя эти сначала неизвестные, но, знаете, такие веские, мощные, настоящие слова. Внимательное, вдумчивое и трепетное чтение подростком Евангелия в таких полуподпольных условиях привело к тому, что отдавал я книгу брату, будучи уже совершенно другим – повзрослевшим – человеком.
– Это начало 80-х годов прошлого века. По меркам историческим – смешное расстояние. Но сколько же всего изменилось за это время! Понимаю, 1980-е – это не ленинский, не сталинский террор, не хрущевские гонения, но, тем не менее, открыто говорить о Христе было просто невозможно. Как у вас, у подростка, воспитывавшегося в советских условиях, возник интерес к чтению Евангелия, к Богу?
– Тут надо не забывать, где я родился и вырос: во Пскове. Тем более я учился в детской художественной школе. И мы ходили на пленэр по городу. А что в Пскове рисовать? – Одни храмы. Там больше тридцати церквей. И, конечно, меня эти храмы очень сильно привлекали, эта архитектура церковная. Начиная с самого раннего возраста, с первого класса, с восьми лет. И мы рисовали храмы. А еще у нас был прекрасный преподаватель – он и сейчас жив, слава Богу. У него имя интересное такое – Александр Александрович Александров. Мы его Сан Саныч звали. Он закончил наш псковский пединститут. Преподаватель черчения и рисования. Он нам об иконах рассказывал, об иконописи, и эти рассказы были очень интересны.
– То есть он не следовал «генеральной линии партии и правительства», согласно которой, Гагарин в космос летал и Бога там не видел?
– Нет, он верующий человек был, но в советское время об этом открыто не говорили. И как раз через культуру Сан Саныч пытался до нас донести мысль о том, что жизнь человеческая – чуть выше, чем пятилетка в четыре года, очередь на квартиру, салями или импортная стиральная машина. Получалось.
– С символикой икон он вас знакомил?
– Да. Он рассказывал нам об иконах, почему Богородица так изображается, почему так – «Одигитрия», почему – «Спас Нерукотворный», что значит красный цвет, зеленый, что такое обратная перспектива. Потом об архитектуре храмовой много нам рассказывал. И это было очень интересно. И это многое мне – да и всем нам, наверное, – давало. Когда я с Евангелием познакомился, у меня еще не было стремления к какой-то конфессии, какого-то конкретного ощущения. Я просто Христа открыл. Христос мне открылся. А Церковь мне открылась – в колхозе.
Благословенная картошка!
– Звучит странно: «Церковь открылась в колхозе»: несоветские реалии в советских условиях.
– Да. Это были, знаете, выезды студентов на картошку.
– Как не знать!
– Вот, и мы, студенты художественного училища, первые месяцы учебы проводили в полях. Жили у местных жителей, а работали в колхозе. Бабушка, у которой мы жили на квартире, в сельском доме, в избе, баба Надя, она церковница была, она ходила читать Псалтырь по усопшим. Раньше были такие бабушки, их монашками называли, они, если кто умрет, приходили ночью читать над гробом Псалтырь перед тем, как похоронить. Ее звали читать, она такая верующая была женщина, и она меня увидела в церкви. Туда я зашел очень просто: увидел храм рядом с нашими полями, ну и пошел вечером. Можно даже сказать, ринулся. Пришел, а там баба Надя.
И после этого она сразу меня начала… ну не то чтобы в чем-то убеждать, а как-то отмечать особо, что ли. Иногда даже пирожком каким баловала. Так-то она кормила нас всех вместе – ей колхоз выделял деньги, и она варила картошку, ну чего-то простое делала: молоко, картошка, хлеб, щи…
– А купить можно было что-нибудь?
– В магазине – иди, покупай. Ну что можно было тогда купить? Выбор был небольшой. Перестройка, все по талонам.
Но перестройка перестройкой, а я захотел принять Крещение. Причем именно в той самой сельской церкви.
– Как называется это село?
– Чамерово Весьегонского района Тверской области. Казанская церковь. А бабы Нади я даже фамилии не знаю, она так и осталась: баба Надя и баба Надя. Крестили меня после всенощной на Рождество Богородицы, а наутро была Литургия. Меня крестил отец Александр Мискин, он сказал: «Тебе причаститься надо, я тебе частицу оставлю, ты с утра ничего не ешь, и, когда будет возможность, ты придешь, и я тебя причащу». А Господь так устроил, что с утра такой ливень пошел, и нас в этот день от работы освободили. Мы скорее с бабой Надей в храм, пока идет Литургия. Вот тогда он меня исповедовал, хотя я был крещен, но все равно он со мной на исповеди поговорил.
Он мне интересно сказал, что сначала он подумал: вот какой-то парень стоит и, видно, не нашей веры, потому что не крестится, не осеняет себя крестным знамением. А я считал, что раз я не крещеный, то мне и креститься нельзя. Я просто так стоял, и все. Я ему так и объяснил, что я не ищу никакой другой веры, просто я думал, что некрещеному нельзя осенять себя крестным знамением.
И у меня уже возникло четкое желание служить, и я сказал ему, что хочу свою жизнь связать с Церковью. И он тогда написал письмо своей сестре. У него сестра была замужем за протодиаконом отцом Михаилом Мельниковым в Калинине. Он служил в «Белой Троице», это был единственный действующий храм на весь город. Он сказал мне: «Ты сходи туда, он человек образованный, семинарию закончил, он тебя направит, куда надо». И я действительно пошел туда, когда приехал в Калинин, познакомился с отцом Михаилом. Он закончил Московскую семинарию в Троице-Сергиевой Лавре. И он меня научил читать и пению. Это, конечно, было такое суровое обучение: что-нибудь не так, он тебе – бах! Сам он пел в хоре архимандрита Матфея (Мормыля), а там воспитание тоже было суровое, поэтому у него такие же методы были. Но, в общем-то, я был рад…
Дома в Церкви
– В храме вы почувствовали себя вернувшимся домой?
– Да. Мне было 17 лет, 1987 год. Хотя храм пустой абсолютно, там три-четыре старушки, которые поют. И тем не менее такое ощущение, что это то место, куда шел. Где никто никому ничего не доказывает, не давит… Меня никто не пытался агитировать или вовлекать. Просто, когда я принял Крещение, стал православным, я как бы попал в семью. И эти бабушки, которые там пели, стали меня воспринимать как будто я их внучок: «Ты обязательно зайди в сторожку чайку попить после службы». Там эти бабушки собирались…
– Эти знаменитые приходские трапезы бедных времен! Когда сухарь был вкуснее бутерброда с красной икрой. Когда печка греет лучше, чем современные системы отопления…
– Да, так было. Еще эти милые бабушки, подвижницы, пекли просфоры, и я захотел сам научиться: «Можно, я буду приходить помогать вам?» – «Ладно, приходи». Они научили меня. А еще ведь тогда литературы не было же никакой, и они собирались читать…
– Переписанные акафисты, наверное, у них были.
– Какие – «переписанные»! У них были огромные Четьи Минеи издания, наверное, XVII века на церковнославянском языке. Они вечером собирались в сторожке. Была такая баба Надя, она хорошо знала церковнославянский язык и читала жития святых, а все сидели и слушали. Или дома собирались у алтарницы бабы Маши…
– Сам звук языка, наверное, завораживал, несмотря на то, что не все было понятно?
– Все понятно было. Ведь церковнославянский язык очень понятен, если человек, который на нем читает, сам понимает, о чем речь. А по-настоящему учиться церковнославянскому языку я начал по «Киевской Псалтыри», точнее – по ее переизданию, конечно. Тогда в магазинах везде стояла эта «Киевская Псалтырь» – альбом 1975 года издания. Все тогда ходили и на него облизывались. Он стоил 60 рублей. Я задался целью и накопил эту сумму, и первые мои опыты в церковнославянском услышала именно она… Здесь почему трудно учиться? – Нет разделения на стихи, отдельные слова даже: «речебезуменвсердцесвоемнестьБога»… И текст отличается от современного: он дониконовский. Он отличается, но читать я стал вот по этой Псалтыри.
– 60 рублей в то время – серьезные деньги…
– Да. И когда я ее покупал, продавщица в магазине в Калинине говорит: «Эх, а мы, бывало, ее возьмем, полистаем. Божественная книга-то, а ты теперь у нас ее забираешь».
А потом мне уже отец Александр подарил мой первый молитвослов. Скончалась одна монахиня, после нее осталась эта книга, и он подарил мне ее: очень хороший молитвослов издания Киево-Печерской Лавры. Здесь все полностью и каноны, и полуночница, и часослов, и месяцеслов. Причем очень интересные гравюры. Киево-Печерские издания всегда очень хорошо оформлялись.
Месть «товарищей»
– Хорошее получилось у вас студенческое время, несмотря на общую разруху!
– Очень хорошее! Тогда, правда, мне в училище досталось «на орехи». Из-за прямоты своей. Точнее, думаю, из-за логичности поведения: я же приехал из колхоза и написал заявление об исключении меня из комсомола. Ведь я был в комсомоле.
– Несмотря на то, что был 1987 год, когда СССР доживал последние дни?
– Ну и что – 1987 год? Целых четыре года еще оставалось. Тогда никто и не думал, что Советского Союза не будет, никто и не знал. Это было еще до 1000-летия Крещения Руси. Год-то был такой…
В общем, я написал заявление, что так как я являюсь членом Православной Церкви, то дальнейшее пребывание в рядах Ленинского Союза молодежи считаю нецелесообразным. Отдал заявление нашему комсоргу – товарищ Гурина такая у нас была, преподавала акварель и живопись на первом курсе. Ну и все, тут и начались мои мытарства. Она сказала мне: «Если бы ты не писал ничего, мы бы закрыли глаза, и ты бы ходил куда хочешь, а раз ты написал, теперь будут разбираться». Это все дошло до обкома партии, с обкома партии им дали по шапке, так как художественное училище считалось идеологическим заведением. И мне потом они довольно жестоко отомстили. Но Господь совершил чудо, защитил.
Клевета
– Каким образом отомстили эти идеологические структуры?
– А вот как. Параллельно со мной учился один молодой человек – Леша Редькин, у него была любовь с девушкой – Наташа Рогожина ее звали, – и она его бросила. Это первая его любовь была, в 17 лет. А он был сыном заведующего областной больницей. Единственный сын врача. По тем временам завбольницей – пост значимый. И вот Леша покончил жизнь самоубийством: повесился. Но я никак не думал, что это каким–то образом может меня коснуться. Он просто пропал сначала, исчез.
Все это было после 7 ноября. У нас была демонстрация, потом какой-то кросс, после этого кросса он и исчез. А Наташка Рогожина стала с другим парнем дружить, тот старше был намного, хороший парень был, Андрей, кажется, его звали; он, кстати, с Весьегонска был, они и познакомились там, в колхозе. Алеша тоже хороший мальчик был, но – мальчик, 17 лет. Девочек всегда интересуют мужчины более опытные. Она Лешу как-то резко оставила, и никто не думал, что… Ведь он просто исчез после кросса и не пришел домой. Все мы были вместе, потом даже какую-то бутылку вина распили одну на всех, так, без всяких приключений. Прошло несколько дней, а его нет и нет. Родители его подали заявление в милицию.
И вот у нас заканчивался учебный день, последняя пара была – живопись, я складывал этюдник, вдруг заходит директор нашего училища – Костенко Нина Степановна: «Беляев, собирайся, за тобой пришли». – «Кто пришел?» – «Из милиции». Что такое? Непонятно вообще. И действительно, два милиционера – правда, они были в штатском, – на «козелке», посадили меня, поехали в отделение. И вот я захожу в помещение, где следователи сидят и мать и отец Редькина. Вдруг мне выдают интересное, что у Алеши нашли в столе рисунки на религиозную тематику: «Значит, это твое влияние; значит, ты виноват во всем». И мне интересную выдвигают версию, что у нас на территории училища действует секта, я глава этой секты, и мы Алексея чуть не в жертву принесли каким-то богам. Я-то вижу, что они не в себе, потому что уже неделя, как нет сына, и они не знают ничего, но сердцем, конечно, чувствуют, что с ним что-то случилось. И они начали какую-то чушь нести, чтобы ко мне физическое насилие применить, чтобы выпытать из меня, где скрывается он. А следователь, чтобы успокоить их, говорит: «Вы не волнуйтесь, он отсюда никуда не уйдет».
Спокойствие и твердость
– И что было дальше?
– Я сначала, конечно, здорово растерялся, просто не знал, как на это реагировать. А потом меня в другую комнату отвели – там никого не было, и вот я сижу один, и как будто какой-то голос внутренний мне говорит: «А чего тебе бояться? Ты ж не виноват ни в чем». Я стал молиться Божией Матери, Господу: я не виноват; значит, все это ерунда. И как-то мне стало спокойно, я перестал нервничать совершенно. Какой-то мир, чуть ли не радость. Я, получается, страдаю за свою веру, раз меня обвиняют в религиозном воздействии на этого Редькина. Хотя мы с ним не дружили совершенно, мы даже в разных группах с ним учились.
Потом пришел следователь, женщина. А я же несовершеннолетний, мне еще 17 было. И вот она начала меня очень прессовать по-всякому, запугивать: то, се, пятое-десятое. Мол, мы тебе, если ты нам ничего не скажешь! мы тебе!..
Я сижу, и у меня такое спокойствие, и пропускаю мимо ушей. И она ничего не понимает: вроде она меня запугивает, а я – ноль внимания. Потом приходит другая: «Что ты его пугаешь? Не пугай. Сейчас мы с ним поговорим, он все расскажет, он парень хороший, молодой». Да, Наташку еще привели, Рогожину. Она тоже растеряна: «А я откуда знаю, что с ним? Я понятия не имею». В общем, нас там промурыжили до 11 вечера, продержали целый день. И вот мне дают бумагу, где написано, что я, такой-то, обязуюсь ничего на религиозную тему никому не говорить, по любому требованию докладывать старшим товарищам, раскаиваюсь в своем неправильном поведении… Она говорит: «Ну, свою подпись поставь и дату». Я прочитал и отвечаю: «Я не буду это подписывать. Я ж христианин, как же я могу ничего никому о Христе не рассказывать?! Это противоречит моим убеждениям».
О, тут началось! У нее улыбочка спала с лица, она как стала меня матом крыть: «Ах ты, такой-рассякой, хитрый какой змей, как уж на сковородке крутишься!» И такую всякую ерунду начала говорить: «Станешь попом, купишь себе “Волгу”, баб будешь возить по ресторанам! А человека нету, а человека сгубили!» В общем, всякую ерунду. Я сижу: «Все равно подписывать не буду». Вот и все, на этом закончился разговор, меня отпустили, взяли с меня подписку о невыезде.
Потом приходили ко мне на квартиру, где я снимал комнату в частном секторе, обыскали, что у меня есть. Нашли у меня Библию, обычное издание Библейского общества, каноническая. Сказали: «Это у тебя антисоветская литература, зарубежная».
– Обычно они «ИМКА-Пресс» высматривали и порнуху. Интересное сочетание.
– Ну а здесь Библейского общества – западное издание. Это все изъяли. И буквально через пару дней объявляют общее собрание в училище. На этом собрании планировалось мое торжественное исключение из комсомола и из училища. И так как возбуждено дело, а тела нет, ты, Беляев, у нас пойдешь первым.
– А вы-то тут причем?
Поддержка друзей
– Я рассказываю, как развивались события. Ребята все, конечно, опешили, кто со мной учился. Они даже написали письмо в мою защиту и ходили к директору с этим письмом. «Старшие товарищи» думали, что таким образом против меня всех настроят, а ребята, наоборот, все на мою сторону встали. Это меня удивило. И, если честно, произошло чудо.
Когда началось это сборище, пришли следователи, тоже выступали, про меня всякую несли ахинею, будто я червь, который грызет все дерево нашего училища… Я ушел, не стал все это слушать, думаю: как будет, так и будет. Домой пошел. А потом мне уже ребята рассказали, когда ко мне вечером пришли: «Слушай, какая-то мистика: в самый разгар собрания прибежала Вальберг, секретарь директора, и на ухо что-то ему горячо шептала…»
– Следователю?
– Нет, директору. И выясняется, что только-только позвонили из группы розыска: нашли тело. Бедняга висит в сарае рядом с домом, и хоть он и самоубийца, но прости его Господь: он написал записку, в кармане у него лежала, что он от неразделенной любви к Наташке Рогожиной кончает жизнь самоубийством. Тут же всё сразу свернули, собрание заканчивается, до свидания…
Короче, меня из комсомола исключили, а из училища – нет, потому что нет состава преступления. И, кстати сказать, с тех пор ребята в училище стали воспринимать меня всерьез: если у них возникали – а у них возникали! – вопросы «о божественном», то обращались они с ними, как правило, ко мне, «к Лехе Беляеву». Такой у меня был статус в училище.
– Так хоть как-то извинились перед вами?
– Это было бы слишком. Вы в каком веке живете? Думаете, что на этом закончилось? – Нет. На следующий день я захожу в училище, ребята все ко мне бегут: «Слушай, мы думали, что тебя повязали и отправили по этапу». Директор вызывает к себе, говорит: «Так, Беляев, знаешь, что я тебе скажу… (а я учился на живописно-педагогическом отделении, то есть на преподавателя рисования в художественных школах) …Раз ты религиозник, раз ты верующий – а среди советских педагогов нет места религиозникам, верующим и фанатикам, – пиши заявление о переводе. Мы тебя переводим на оформительское отделение». Художник-оформитель. И вот я вынужден был со второго курса сразу переходить на третий курс оформительского отделения. И мне пришлось экстерном сдавать то, что они уже прошли, потому что у нас были разные программы: шрифты там всякие. Я буквально зашивался.
Они мне сделали такую жизнь, как будто тебя выдавливают, чтобы ты сам документы забрал. В результате Господь как-то дал силы, я справился, ночами сидел – и все сдал. И единственный со всего отделения оформительского защитил диплом на пятерку. Господь меня вот так защитил. Такое знамение было.
– А почему вам удалось защитить диплом на «отлично», если вы – не более чем религиозник-троечник?
– А потому что на самой защите были независимые эксперты – из Москвы, из «Строгановки»… Свои бы зачморили, это уж точно. Возьмите мой диплом об окончании, я могу его показать: три, три, три… одни тройки, а диплом – пять.
– Не может быть такого!
– Может. Так вот. Такое было первое испытание моей веры.
Разговор отца и помощь прадеда
– Отец Довмонт, вы упомянули о том тихом, светлом спокойствии, которое испытали, когда на человека ни в чем не виноватого обрушиваются сплетни, клевета и прочее. Я имею в виду эту историю со следствием.
– Да, было такое. Слава Богу, эта история и на моих родителей благотворно повлияла. Когда я им объявил, что принял Крещение, то есть стал православным христианином, они испугались. Папа был коммунистом, офицером-десантником. Они мое Крещение восприняли панически. Они даже думали, что я тронулся, что это ненормально. Даже меня в больницу положить хотели. А потом, когда случилась вся эта история, когда об этом узнал отец… я об этом им ничего не рассказывал, они узнали, когда все уже прошло, благополучно завершилось и я остался в училище. Так вот, тогда отец был уже в запасе, на пенсии, но он все равно надел свой мундир, шинель и поехал в училище, мне ничего не сказав. Завучем тогда у нас был мужчина, преподавал у нас архитектуру (забыл его имя-отчество), и, чувствую, поговорил отец с ним по-мужски. Потому что завуч с красным таким лицом из кабинета вышел.
– Отец стал уважать вас?
– Да. Он с этого момента принял мою позицию. Он сказал: «Я не хочу терять сына, несмотря на твои взгляды, хотя я и считаю, что ты ошибаешься». Потому что это были люди 1930-х годов рождения: мама – 1930 года, папа 1935-го – со всеми прелестями советской пропаганды. Запуганы они были здорово. Сформировались в сталинские времена. Они, конечно, за меня переживали: «Вот теперь все: никуда толком не устроиться…»
– Они отхватили по полной от советской власти. Имею в виду: ментально.
– Тем более наш прадед – мама потом мне рассказывала, я тогда не знал, – так вот, дед мамы, Андрей Поклонов, был расстрелян за то, что был верующий. В 1937 году на Алтае стали закрывать храмы, там началось повальное закрытие церквей, аресты священников. Села были большие: тысяча человек и больше. Когда храм закрыли, жители собрали сход, на этом сходе написали петицию, выбрали несколько человек, в том числе был дед. Они поехали в Барнаул требовать, чтобы храм открыли, чтобы его не закрывали. И больше их никто никогда не видел. Они не вернулись оттуда. Поэтому мама боялась, переживала за меня.
Потом-то, когда она обратилась к вере, покаялась, первый раз исповедовалась, причащалась, выяснилось, что она наизусть знает и «Отче наш», и «Богородице Дево, радуйся», то есть дед ее научил, когда ей было 6 лет. А когда деда расстреляли, ей было семь. А она воспитывалась у дедушки с бабушкой, у них тоже большая была семья – 8 детей.
Так или иначе, мама с отцом сохранили в себе способность принять, признать решение сына много лет спустя. Допускаю, что нам помог прадед, Царствие ему Небесное.
– Вы сказали, что клевета, попытки унизить в училище, откровенные издевки – это всё было только первым испытанием в вере. Были другие испытания?
– Так они же постоянны! Спокойная жизнь христианину, похоже, противопоказана. Да, были другие испытания, и не только внешние, со стороны, но были и другие радости и утешения. Но об этом потом.
С игуменом Довмонтом (Беляевым)
беседовал Петр Давыдов.
С сайта Православие.ру