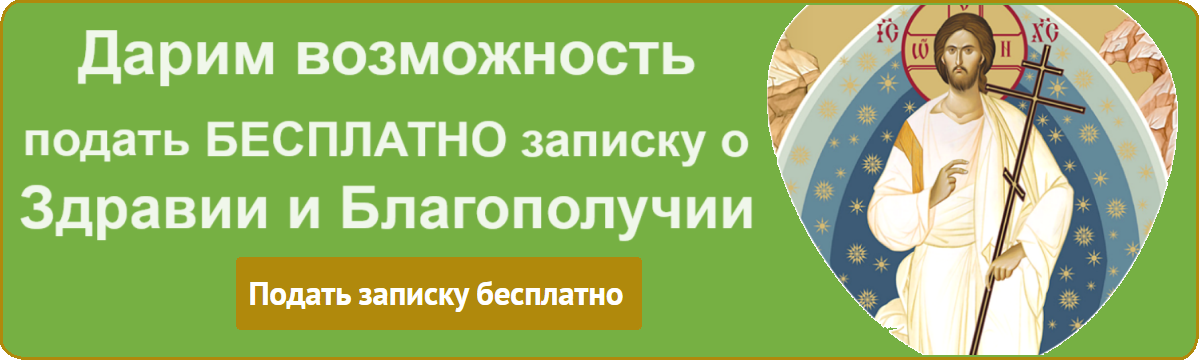- Лента
- |
- Участники
- |
- Фото 29
- |
- Видео 0
- |
- Мероприятия 0
ПОРТРЕТ. Рассказ.
ПОРТРЕТ.
Рассказ.
Машина остановилась у длинного одноэтажного дома-барака. Взрослые вышли из неё, а дети остались сидеть и глядеть из раскрытых окон на своих молодых и нарядных родителей – то уходивших к дому, то возвращавшихся обратно к машине. Неясно было, кто ожидает их в этом доме. Но детей не волновала эта взрослая суета. А того, что их волновало, того они и сами не могли бы пока что вразумительно объяснить даже самим себе.
Маленький Николушка смотрел на маму. Этим созерцанием он занимался, сколько жил на свете – то есть вот уже почти шесть лет. И оно неизменно его до самой глубины души потрясало. МАМА!!! - это был некий самозабвенный экстаз; это была такая непрестанная безотчётная молитва. МАМА. В бледно-розовом шёлковом летнем платье, подчёркнутом у высокой груди тонким чёрным кантом; не без склонности к полноте, но – очень стройная, с тонкой талией и блестящими волнистыми пепельными волосами. Каждое движение, разворот головы, улыбка; каждый взгляд искрящихся на солнце ярко-синих глаз – волшебство. И Николушке всякий раз становилось невыносимо больно, когда всё это волшебство от него почему-либо вдруг отстранялось и отдалялось – так что он вынужден был созерцать его как нечто отдельное от себя – вместо того, чтобы, напротив, самого себя ощущать центром этого плещущегося, нежного и благоухающего океана красоты, любви и безграничного покоя. Он просто физически никаким образом не мог этого выносить, а потому всегда с плачем вынужден был бежать к маме, обнимал её, утыкался личиком ей в колени и потихоньку успокаивался только тогда, когда мама, наклонившись, брала его на руки, и он крепко-накрепко обнимал её за шейку.
Но сейчас Николушка понимал, что он уже достаточно большой мальчик. А потому ему приходилось уже привычно держать себя в руках. Поскольку таких больших мальчиков мамы уже на руках носить, оказывается, не могут и не должны. Такие большие мальчики сами уже должны будут вскоре вырасти настолько, чтобы носить своих мам на руках… в подтверждение чего папа неоднократно демонстрировал это сыну, подхватывая на свои сильные руки смеющуюся разрумянившуюся маму. И Николушка, в ожидании такого часа, обычно представлял себе, как это будет прекрасно, что маме уже не нужно будет никуда от него убегать, поскольку она теперь уже вечно будет сидеть у него на руках и крепко обнимать его за шейку – и он, таким образом, обретёт, наконец, желанный покой… об утрате которого он откуда-то всегда безотчётно знал и помнил.
Так что сейчас он привычно предавался созерцанию обоих родителей – имея, однако, в виду, что папа – это всего лишь тот зримый образ существа, в которое он сам когда-нибудь со временем должен будет неминуемо превратиться ( и которое именно поэтому должно постоянно находиться перед глазами – чтобы Николушка уж никак не мог чего-нибудь по оплошности перепутать и всегда точно знал, в кого именно ему следует превращаться по мере возрастания); а вот мама… мама – это его вечная боль и единственное условие всей его жизни.
Рядом с Николушкой на заднем сиденье машины пребывала его Наталя. Раньше, когда он был маленький, он неизменно подробно расспрашивал всех своих друзей на предмет того, где их папа? – (на работе); где их мама? – (на кухне); и – где их Наталя? На что очень многие мальчики растерянно отвечали: - «А у меня нет никакой Натали…» - и тогда Николушка с округлёнными глазёнками в ужасе бежал к своей прекрасной маме выяснять, куда же у этого несчастного мальчика могла подеваться его Наталя, как он может без неё жить, и что именно нужно конкретно предпринять для того, чтобы она у него, наконец, возникла…
Итак, Наталя была далеко-о не у всех мальчиков. Но у Николушки она была. И это был ещё один предмет его постоянных одиноких созерцаний, но только совсем в другом роде.
Это было существо, которому он был отдан в полное распоряжение и послушание; на полное, как он был уверен, «растерзание» его души. Он её страшно боялся. Он перед ней абсолютно благоговел. И он всегда мечтал, но никак и никогда не мог оказаться адекватным другом и товарищем её бесчисленных занятий и игр.
То в руках у Натали оказывался пластилин. И тогда из него возникали длинногривые кони с крутыми лебедиными шеями, и несли на себе благородных рыцарей к невиданным крепостям и замкам, где покоились в вечном сне, ожидая их поцелуя, утончённые прекрасные принцессы. Наталя, конечно, великодушно делилась с братиком пластилином и терпеливо учила его, как надо лепить. Но он-то видел, что из его рук выходят только уродливые и бессмысленные «колбаски», которые к прекраснейшей Наталиной игре было категорически не приспособить.
То вдруг она раскладывала на своём рабочем столе всяческие рисовальные принадлежности – и тогда на альбомных листах возникали цветы; сказочные бальные платья; какие-то самые невероятные лица с огромными, почему-то всегда печальными глазами. Николушка тоже брал в руки чистый альбомный лист; тоже честно старался нарисовать на нём роскошными цветными карандашами что-то своё – вроде солдатиков или машин… но каждый раз в немом отчаянии переворачивал лист, не позволяя никому даже взглянуть на свой рисунок, - ибо он понимал почему-то, что его «каракули» не шли ни в какое сравнение с Наталиными картинами – полными, как ему казалось, волшебства и неизменного совершенства.
Либо открывалась крышка фортепиано, и Наталя начинала учить братика играть с ней в четыре руки… и опять у неё из-под пальцев лилась чарующая настоящая музыка, которую он только портил своим неумелым вмешательством… и опять остро это переживал.
Но чаще всего длинными зимними вечерами, которые они вдвоём коротали в пустой квартире, ожидая родителей с работы, Наталя рассказывала брату истории, вычитанные ею из книжек. Про индейцев племени делаваров и могикан. Про всадника без головы. Про тайну Золотой долины; и даже про копи царя Соломона. Николка слушал, то весь розовея и блестя круглыми глазками от восторга, то – бледнея и совершенно изнемогая от страха… и, в конце концов, из всего этого общения со старшей сестрой вынес для себя твёрдое ощущение того, что волею судеб рядом с ним оказалась своенравная и грозная маленькая волшебница, от которой нет и не может быть никакого спасения ни всему миру, ни ему, маленькому мальчику… - разве что только на самое малое время в объятиях большой волшебницы – мамы… когда мама его, уже полусонного, купает; целует; укладывает в постельку и – о чудо! – сама на несколько минуточек прилегает рядышком…
Наталя созерцала мир по-другому. Из открытого окна машины она, не отрываясь, глядела на папу. На маму смотреть было слишком больно и бесполезно: мама для неё была безвозвратно потеряна уже очень давно – с тех самых пор, когда в семье появился братик. И с этой потерей уже ничего невозможно было поделать. Можно было неделями подряд получать в школе сплошные пятёрки. Можно было выдраивать всю посуду; вытряхивать на улице все половички; гулять с братиком и совершать любые иные подвиги – мама могла гордиться своей девочкой или предъявлять к ней те или иные претензии, но сердце мамы этой девочке больше не принадлежало, и с этим открытием пришлось не только совершенно смириться, но – учиться как-то с этим жить дальше. И тогда взоры малышки невольно обратились к папе.
Слава Богу, - она чувствовала, что уж его-то сердце от неё никуда не подевалось! – он как-то умел любить всю свою семью целиком; умел дарить в ней «всем сестрам по серьгам» - и вот с некоторых пор в одном этом сердце Наталя стала видеть свою единственную точку опоры… в это сердце внимательно вглядывалась и чутко вслушивалась – бессознательно ощущая себя скорее сказочной «папиной дочкой»… полусиротой.
Так что вот теперь её взгляд из раскрытого окна машины был прикован к точёному отцовскому профилю и блестящей пряди прямых волос цвета воронова крыла, вечно падающих у него со лба – в ожидании того, какие же, наконец, последуют распоряжения: дети уже изнемогали от духоты и хотели есть.
Наталя уже изначально смирилась с тем фактом, что Николка практически полностью отдан на её попечение. Она вынуждена была научиться управляться с ним, подчиняя его своему авторитету, чтобы родители ею были довольны – но всё-таки ей, похоже, не очень хватало силёнок на этот двойной труд: расти самой и растить братика… и вот в безоговорочном послушании отцу она пыталась, как могла, эти силы черпать. Ей только что минуло тринадцать, и она как-то стремительно стала взрослеть.
Наконец, им было велено выйти из машины.
Сквозь зеленеющий весёлый палисадник, виноградные арки и вишнёвые деревья дети попали прямо в распахнутые объятия тёти Лизы – маминой подруги детства.
Лицо тёти Лизы им было хорошо знакомо по семейным фотоальбомам; она улыбалась и была принаряжена, но только пахло от неё чем-то пронзительно чужим, и брат с сестрой постарались как можно улыбчивее и вежливее уклониться из тётиных объятий и пройти в дом. Однако и в доме их ждал тот же специфический, хотя и более приглушённый запах…
Много лет подруги детства не виделись, а только переписывались. Мама растила деток. А тётя Лиза замуж так и не вышла. Вместо деток у неё были очень сильно постаревшие больные родители, за которыми он усердно ухаживала. И вот теперь, наконец, с маминой стороны впервые была предпринята эта поездка в родные края – что называется, «на смотрины»: показать родне и друзьям свою молодую семью во всей её красе и благополучии.
Наталя особенно остро чувствовала эту ситуацию «смотрин» - с неловкостью ощущая на своих плечах потрясающе красивую блузку настоящего индийского гипюра, впервые сшитую ей специально для этой поездки. Ведь мама всегда подчёркивала, какое тяжкое детство и юность пришлось им с тётей Лизой пережить в войну… Когда она начинала вспоминать о войне, глаза её становились бездонными, а их синева – такой резкой и угрожающей, что Наталя невольно начинала бояться за маму. Но воспоминания эти очень любила. Когда мама вспоминала своё детство, свою маму, своих ненаглядных братиков-фронтовиков – лицо её становилось прекрасным и совсем детским, из глаз светились лучистые слёзы… и в эти редкие моменты сердце её как будто раскрывалось и становилось, наконец, видимым для взора взрослеющей дочери… так что в юбке, сшитой из чьей-то плащ-палатки, и в ватной фуфайке с накинутым на косы белым платком-паутинкой, мама представлялась несравненно прекрасной, и никакие золотые и серебряные гипюры, привезённые из Индии дядей-металлургом, с этой красотой вовсе никак не могли соперничать и сравниваться.
Оба они, брат и сестрёнка, с самого начала жизни остро ощущали свою сильнейшую зависимость от красоты. От красоты окружающего мира, но ещё более – от красоты человеческой. Носителями которой являлись, в первую очередь, их родители, а во вторую – те взрослые люди, которые возникали в родительском окружении. Но только Николушка ещё не вычленял себя среди всего сущего. А Наталя уже ощущала себя существом, пребывающим в процессе мучительного отделения и определения собственной субстанции из окружающего мироздания. И этот нежный зелёно-золотой блеск пресловутого гипюра ещё более подчёркивал неведомое ей прежде, нарождавшееся в душе прямо сейчас бессловесное душевное одиночество. Братик при взгляде на неё тоже чувствовал безотчётную душевную боль, от которой хотелось заплакать примерно так же, как при отдалении от мамы.
И вот, едва переступив порог тёти-Лизиной комнаты дети совершенно врасплох встретились с нею – с этой странной и загадочной, причиняющей боль КРАСОТОЙ.
Всю стену этой комнаты занимал огромный портрет ослепительно юной женщины, написанный в золотисто-пепельной гамме. Неизвестная красавица была развёрнута в четверть-оборота к зрителю и смотрела чуть слева направо мимо детей. В глазах её не было ни тени улыбки, они были словно хлынувший свет… и этот свет заливал, затапливал собою весь правый угол комнаты и всё твоё сердце. Строго и отрешённо глаза эти были распахнуты навстречу Чему-то… чему-то Такому, Чей Свет и Чью Невозможную Красоту они, как зеркало, одновременно отражали и выражали; одновременно – облекались Ею и посылали мощнейший световой поток из себя – навстречу зрителю. Были ли серыми или карими её глаза?! – была ли она блондинкой или брюнеткой?! – этого невозможно было определить: пышное облако её волос, кружево платья отливали кремово-золотым, и к этому мягкому свечению примешивались едва уловимые розоватые тени. На ней были также какие-то изящнейшие украшения, светившиеся таинственными мерцающими бликами; и весь её облик дышал благороднейшей утончённостью, невиданной доселе обоими детьми…
Их оторвали от этого созерцания добродушно-иронические хмыки и смешки взрослых, под которые дети вынуждены были «спуститься с небес на землю» и увидеть себя в центре весьма большой комнаты метров этак на сорок, представлявшей собою полнейшую несообразность тому, что они только что созерцали. Она была очень светла, но – вся сплошь уставлена какими-то невероятными комодами и горками, ломившимися от обилия мелких и мельчайших статуэточек, шкатулочек, салфеточек, фарфоровых и глиняных кошечек, птичек и коробочек. Слева у другой стены стояла кровать тёти Лизы – с каймой-подзором, горой подушек под ажурной накидкой – сверкавшая никелевыми шишечками и шариками. А прямо под чудесным портретом существовало ещё одно ложе, неизвестно из чего сотворённое… супружеское ложе тёти-Лизиных родителей. На нём копошились два сгорбленных старичка. Папа был полулысый морщинистый старичок с белёсым круглым лицом и розовато-воспалёнными веками. А мама была – седой растрёпанный старичок в каких-то блёклых лохмотьях и почему-то с ушами огромной, невероятной длины, касающимися плеч – каких не бывает в жизни.
Старички копошились, улыбались беззубыми ртами и даже несколько хихикали, пытаясь вести «светский разговор» с молодыми людьми – родителями Натали и Николки. Из этого разговора явствовало, что эти старички когда-то тоже были молодыми и даже видными людьми; что тётя Лиза вместе с мамой когда-то состояли при них маленькими девочками; и даже – что старичок-мама была на несколько лет старше своего старичка-папы и в своё время почему-то долго не соглашалась выйти за него замуж. –«Ага… дюже красивая была для меня, - веселился старичок-папа, - цены себе прям не сложить было… а щас какая стала?! – а я как ещё прилично выгляжу, я моложе её на целых пять лет!» - с сарказмом хихикал он, и дети с удивлением почуяли, что он всерьёз сейчас пытается унизить свою супругу в глазах окружающих – всерьёз мстя ей за какое-то своё «доисторическое прошлое».
А седой сморщенный старичок-мама, в свою очередь, громко хлопала супруга по блестящей лысине сложенной газетой «Известия», при чём невероятные уши её, свисая в прямом смысле до самых плеч, шевелились от возмущения и тоже какой-то горькой, горчайшей застарелой обиды…
Дети, не сговариваясь, взялись за руки и тихо попятились в дальний угол этой необъятной комнаты, к жёсткой кушетке, на которую взобрались и затихли там – молча; обнявшись и нахохлившись. Дети были сломлены. Они были никак не готовы к этой жесточайшей правде. Они не могли пережить того, что их чудная красавица на портрете и вот эта самая сморчок-старичок мама тёти Лизы, копошащаяся под портретом на куче тряпья, оказывались одним и тем же лицом. С дальней кушетки вся эта картина ужасающего контраста между портретом и его нынешним оригиналом открывалась им полностью, и они были вынуждены предаться ещё и этому – впервые настолько страшному – созерцанию. Они увидели своих молодых и прекрасных родителей – и поняли, во что превратится их непобедимая красота через чреду грядущих лет. Они увидели себя – и поняли, что и их неминуемо ждёт та же участь. Дети сидели обнявшись и тесно прижавшись друг к другу, но между ними незримо вдруг легла некая разделительная черта, стремительно разверзавшаяся в непреодолимую пропасть… Сердечко маленького мальчика затрепетало и полетело к маме в наивном желании спрятаться, зажмуриться,.. найти убежище от страшного созерцания, как всегда бывало, на материнской груди. Сердце его сестры порывало сейчас даже те нити, которые связывали её с любовью и защитой отца: оно решилось безвозвратно принадлежать только Тому Свету, Который лился сейчас от чудесного портрета - охраняя бессмертную юность и красоту той, которая сама не сумела сохранить себя в неприкосновенности тлену…
Дети обнимали друг друга, но всё острее и острее ощущали на себе раскалённую каинову печать тотального сердечного одиночества, так внезапно и вероломно настигшую их здесь, посреди самого нежного и безмятежного детства, в лоне полной любящей семьи, на пороге взросления – и не покидавшую уже более никогда.
Впрочем, однажды… или даже вовсе не однажды?! – несколько раз в жизни… да, бывало освобождение. Натале было семнадцать лет; её умиравшая к этому времени бабушка попросила провести её из комнаты на кухню и обратно… и, осторожно ведя бабушку за обе руки, она задержалась посреди прихожей у большого зеркала. В зеркале отразились вместе невозможная юнейшая красавица с горячим взглядом шоколадных глаз – и всклокоченная сгорбленная старуха, вцепившаяся в точёные кисти рук внучки своими дрожащими скрюченными пальцами… и в этот момент внучка почувствовала властное единение этих двух душ. Эта старуха была когда-то семнадцатилетней красавицей. Эта девочка с шоколадными глазами станет когда-то всклокоченной сгорбленной старухой и вцепится в чьи-то юные кисти скрюченными пальцами. Они – ОДНО. Были – и будут. Это ощущение не дало ей радости – напротив, оно дало ей слёзы… но каинова печать исчезла на эти мгновения. И ещё раз она исчезла – когда Натале показали её новорождённую дочку. –«Девочка!!!» - воскликнула акушерка… и молодая мать после суточных родовых мук отчётливо поняла, кто перед ней. «И она тоже…» - пронеслось у неё в мозгу… и этот розовый комочек рождён для всех этих мук – родовых и сердечных; и они вдвоём – ОДНО…
А повзрослевшему и возмужавшему Николушке вновь пришлось обнять свою сестрёнку в день похорон их отца, и в этом братском объятии вновь было непобедимое единение. И брат теперь был точной отцовской копией – поседевшей и постаревшей; а отец смотрел на них обоих с портрета, сияя благородным точёным профилем и прядью блестящих волос цвета воронова крыла… и когда-нибудь рядом с этим портретом им предстояло поместить портрет их мамы – в её розовом шёлковом платье с тонким чёрным кантом у высокой груди.
Популярное видео
-

Гендель / Хальворсен – Пассакалия / Исполняет Монах Авель
Николай · 959 просмотров -
10:07

Книга Иова, ч.1
Алина Распопова · 2040 просмотров -
04:05

Простые законы добра #Лучшее видео про добро #Simple laws of good
аккаунт удалён · 1336 просмотров