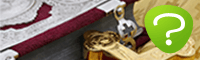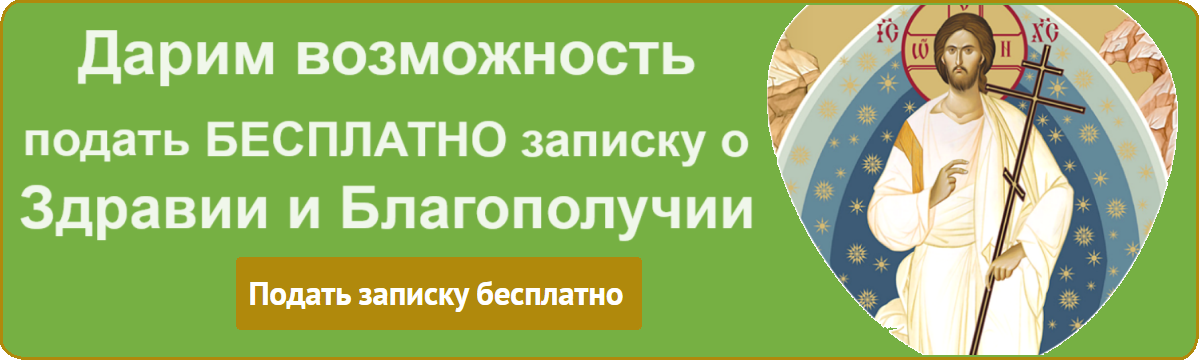- Лента
- |
- Участники
- |
- Фото 80
- |
- Видео 2
- |
- Мероприятия 1
Куда исчезла классическая архитектура
( Лондонский Хрустальный дворец — первое выставочное здание из стекла и металла, спроектированное садовником Джозефом Пакстоном по образцу оранжерей )
Сразу оговорюсь – в этой статье я не обсуждаю архитектуру зданий самого дешевого класса, при строительстве которых никто не думает не то что об эстетике, но даже о качестве материалов и банальной эргономике. Точно так же я не обсуждаю «здания-аттракционы» вроде сиднейской оперы или Гуггенхайм-музея в Бильбао, которые специально сделаны максимально вычурными для привлечения внимания – такие сооружения в принципе не могут строиться массово, и родственны они скорее гигантским скульптурам, а не собственно зданиям.
Я буду рассказывать об архитектуре, которая формирует облик современных городов – с одной стороны, достаточно дорогой, чтобы при её создании люди могли задумываться об эстетике, а с другой – достаточно массовой. Сегодня такую роль играют всевозможные деловые центры и новые дома, которые строятся в городах и их окрестностях.
Лондонский Хрустальный дворец — первое выставочное здание из стекла и металла, спроектированное садовником Джозефом Пакстоном по образцу оранжерей. Кстати, в романе Чернышевского «Что делать» в одном из снов Вера Павловна видит стеклянно-металлический дом будущего, вдохновленный именно Хрустальным дворцом.
Начнем с того, откуда вообще появилась современная архитектура. Её истоки можно увидеть ещё в XIX веке – эстетика зданий из стекла и металла началась с Хрустального Дворца, возведенного в лондонском Гайд-Парке для Всемирной выставки 1851 года. Можно представить себе, какое впечатление полукилометровая стеклянная громадина производила на людей, едва начавших привыкать к паровозам! Потом, после Первой Мировой и революций, начала набирать силу эстетика архитектурного авангарда, модернизма и схожих стилей – в Советском Союзе конструктивистские здания воплощали собой идею светлого коммунистического будущего, а на Западе streamline art deco прославляло технический прогресс. Старая архитектура – не только классическая греко-римская, но и другие исторические стили – повсеместно вытеснялась удивительными новыми зданиями, сверкающими стеклом. После Второй Мировой, когда люди окончательно поняли, что красота как-то совсем не спасает мир, архитекторы почти что отказались от самого понятия красоты зданий – именно поэтому послевоенный брутализм нарочито груб, суров и непривлекателен. Разрушенные города Европы восстанавливались в новом архитектурном стиле с надеждой на то, что новая архитектура откроет путь в справедливое светлое будущее. Потом, в шестидесятых-семидесятых, когда доминирование модернизма было уже тотальным, стали сносить даже целые исторические кварталы, заменяя их застройкой в новом стиле. Конечно, сам подобный вандализм чаще всего вызывался желанием увеличить коммерческие площади — однако стиль новой застройки был всецело следствием «духа времени».
Тем временем страны «третьего мира», получившие надежду на строительство у себя более справедливого общества, тоже пытались переосмыслить себя в терминах новой архитектуры: в Индии Ле Корбузье построил город Чандигарх, столицу штата Пенджаб, а в Бразилии Оскар Нимейер построил новую столицу Бразилиа. Даже иракцы решили пригласить Вальтера Гропиуса, основателя школы Баухауз, для строительства кампуса Багдадского Университета.
Дейли-Экспресс-Билдинг в Манчестере может выглядеть как рядовой бизнес-центр в Рязани, но на момент строительства в 1939 году оно поражало новизной своих форм. Норман Фостер говорил, что именно оно вдохновило его на создание стиля «хай-тек» — разновидности позднего модернизма.
В конечном счете, победное шествие модернизма привело к тому, что классическую архитектуру перестали преподавать в училищах и институтах, а производство качественного архитектурного декора практически исчезло. С тех пор студентов-архитекторов попросту не учат тому, как следует украшать здания, а навыки создания качественных украшений тоже частично утеряны. Почти ни в одном из сколько-нибудь значимых архитектурных институтов нет программ с акцентом на архитектурные излишества — это почти как если бы в художественных училищах перестали преподавать реалистическую живопись. И если в Советском Союзе классическая архитектура была разгромлена сверху во время «борьбы с украшательством», то на Западе этот процесс длительное время происходил снизу – но привел к схожим результатам. Теперь, когда модернистскими зданиями уже мало кто восхищается (кроме самих архитекторов), вернуться к качественному «украшательству» уже весьма сложно. Это – частный случай феномена с умным названием «path dependence» (зависимость от траектории). По схожим причинам весь мир до сих пор пользуется клавиатурой QWERTY: привыкнув ней однажды, перейти на другую — возможно, более удобную — клавиатуру достаточно трудно. По мнению некоторых искусствоведов, на исходе Античности похожий эффект привел к исчезновению реалистической скульптуры и живописи: сначала, в конце III века, от них сознательно отказывались в пользу большего символизма, а спустя некоторое время необходимые навыки были утрачены. В архитектуре же ситуация с патх-депенденс усугубляется ещё и тем, что среди архитекторов не принято даже задумываться о возвращении к «старью»: на тех, кто все же строит в исторических стилях или пытается украшать здания каким-либо другим орнаментом, смотрят в лучшем случае как на дураков, а в худшем — как на кяфиров. Такой эффект эхо-камеры только сильнее убеждает архитекторов в харамности традиционной архитектуры.
В 1950-х, когда небоскребы из стекла и металла (в т.н. итернациональном стиле) только начали строиться, они производили неизгладимое впечатление чего-то инопланетного и поражали воображение.
Важность изучения канонов «архитектурного украшательства» не стоит недооценивать: ведь несмотря на то, что архитектура всегда являлась творческой профессией, в которой находилось место для художественного гения, большая часть зданий в городах, которыми принято восхищаться — от Венеции до Санкт-Петербурга — прекрасны не столько оттого, что их авторы были гениями, сколько потому, что они были очень высококлассными ремесленниками. В свое время Мандельштам, восхищаясь Петербургом, очень верно подметил, что «красота — не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра».
Разницу между профессиональной и непрофессиональной неоклассикой можно увидеть, если сравнить сталинскую архитектуру тридцатых-пятидесятых и лужковскую архитектуру девяностых. Сталинская архитектура была не совсем классической – она была призвана воплощать величие коммунизма через синтез неоклассики, ар-деко и некоторых новых идей, и потому обладает огромным подавляющим масштабом, отдающим сталинской идеологией. Тем не менее, она во многом наследует классической архитектуре, что нетрудно заметить, пройдясь по Тверской. У Сталина была возможность пользоваться услугами архитекторов старой школы: так, Иван Жолтовский ещё до революции строил неоклассические купеческие особняки, а Алексей Душкин получал образование в домодернистской атмосфере (хоть это были уже двадцатые годы). Поэтому сталинские здания часто перекликаются то с Ренессансом, то с барокко, то напрямую с Древним Римом, и выглядят вполне достойно на фоне более старой застройки — даже несмотря на гораздо больший размер и привкус тоталитаризма.
Лужков, в свою очередь, очень хотел застроить новую капиталистическую Москву человечной архитектурой - так, как строили в XIX веке или хотя бы как при Сталине. Но ко времени Лужкова классическая традиция уже была почти мертва, и заказ на классическую архитектуру пришлось выполнять мастерам брежневского модернизма: Андрею Меерсону (автору знаменитого дома на ножках), Михаилу Посохину (сыну автора Нового Арбата), и другим. Чаще всего у этих людей не было четкого понимания того, как следует строить здания с орнаментом, и за образец они часто брали не Браманте и Палладио, а американских постмодернистов с их ироничным переосмыслением классики. Неудивительно, что в основном у них получались несуразные пародии на дореволюционную архитектуру – зато такая «неоклассика», созданная советскими проектными институтами, послужила прекрасным олицетворением капитализма, построенного советской номенклатурой.
Архитектура сталинская (сверху) и лужковская (снизу). Далеко не вся сталинская архитектура проектировалась качественно, и не вся лужковская «неоклассика» безобразна, но общая тенденция просматривается.
Конечно, современные архитекторы вполне могут сами изучить принципы классической архитектуры: на Западе этим занимается, например, Куинлан Терри, а в России – Дмитрий Бархин и другие. И точно так же сейчас есть компании-производители архитектурных деталей. Однако из-за того, что это все требует дополнительных усилий при довольно небольшой отдаче, подобная практика все ещё не очень популярна.
Примеры качественной стилизации под историческую застройку: квартал Ричмонд-Риверсайд (Лондон, арх. Куинлан Терри) и комплекс зданий Евросоюза на Кадашевской набережной (Москва, арх. Дмитрий Бархин)
Вторая важная причина популярности модернизма заключается в особенностях современной культуры потребления и промышленного дизайна.
Девяносто лет назад модернизм противопоставлялся буржуазной эстетике с её карнизами, гирляндами, цветочками, самоварами и чайничками. Модернизм возвещал о прогрессе, о строительстве утопии и о поисках неизведанного – в общем, о новизне. Сейчас он тоже возвещает о новом – но о потребительском новом. О новом не в значении прекрасного мира будущего из научной фантастики, а в значении нового товара: новой модели смартфона, нового автомобиля, нового холодильника. Поэтому эстетика большей части современной архитектуры почти не отличается от эстетики промышленного дизайна: современное здание должно блестеть как можно ярче, чтобы его заметили покупатели, и ассоциироваться с последними достижениями потребительской техники. Прямым следствием такой смены модернистской парадигмы является появления стиля «хай-тек» во второй половине двадцатого века. Этот стиль, наиболее известными представителями которого являются Норман Фостер и Ренцо Пиано, уже не имеет никакого отношения к социалистической утопии: он выражает чисто капиталистический идеал высокотехнологичного потребления. И, кстати, внешнее оформление большинства зданий в этом стиле стоит огромных денег, что говорит о том, что стоимость декора едва ли является осносной причиной исчезновения классической архитектуры.
Типичные представители стиля хай-тек: небоскребы банка HSBC в Гонконге и Swiss Re в Лондоне (оба спроектированы Норманом Форстером)
В данном случае показательна история нью-йоркского небоскреба 432 Park Avenue, самого высокого жилого здания в мире. Многим нью-йоркцам этот небоскреб очень не понравился — он полностью лишен декора и представляет из себя просто очень тонкую вертикальную спичку. А потом его автор честно признался, что источником вдохновения для него послужило замечательное мусорное ведро за 225 долларов.
А теперь поговорим о более приятной стороне дела. Часто можно услышать, что постройкой зданий в исторических стилях занимаются в основном китайцы в своих поселках «а-ля Париж», и отчасти это правда: ведь для них это выглядит куда более оригинальным, чем для европейцев. Однако на самом деле этим занимаются во всем мире, пусть и с разным масштабом и разными целями. Самым заметным европейским проектом строительства «исторического города» является английский Паундбери, спроектированный Леоном Крие по инициативе принца Чарльза. Этот городок почти полностью воспроизводит архитектурную ткань старого города — не только саму архитектуру, но и организацию городского пространства, то есть является не только архитектурным, но и урбанистическим экспериментом. Financial Times уверяет, что этот эксперимент оказался не только на удивление успешным, но и во многом предвосхитил сегодняшние урбанистические движения за зеленую и человечную городскую среду. Так что, возможно, что города будущего будут выглядеть не как собрание футуристичных небоскребов, а как уютный английский городок.
Центральная площадь Паундбери
Однако наиболее примечательными являются архитектурные эксперименты, которые прямо сейчас проводятся в России. В РФ работает очень сильная школа архитекторов-неоклассиков: Дмитрий Бархин, Михаил Филиппов, Илья Уткин, Павел Андреев, Михаил Белов и другие, и этим архитекторам удается убеждать девелоперов строить здания по их проектам. Наибольших успехов на этом поприще добился Максим Атаянц — прекрасный рисовальщик, блестяще образованный в области классической архитектуры (вот, к примеру, его прекрасная лекция о Казанском соборе:
Поселок Ивакино-Покровское, работа Максима Атаянца
После оглушительного успеха этого поселка, который девелопер продал за несколько недель (это, кстати, согласуется с некоторыми исследованием рынка недвижимости в свете стилей архитектуры ), Атаянц стал главным архитектором компании-строителя, и построил ещё несколько очень интересных ЖК эконом-класса— как, например, «Город набережных» в Химках.
Очень оригинальное архитектурное решение Атаянца — стилизация паркинга под руины древнеримского нимфеума и акведука.
И, наконец, самый безумный проект Атаянца — это ныне строящийся ЖК в Химках, в котором он попытался найти компромисс между огромным двадцатиэтажным муравейником и человечной архитектурой путем концентрации архитектурного декора на нижних этажах — что, в целом, отвечает тому, как люди воспринимают фасады зданий, в то время как большинство современных зданий вообще не рассчитаны на восприятие вблизи. Будет ли подобное решение сколько-нибудь успешным, покажет время.
Интересно, что Атаянц в свое время выиграл на архитектурном конкурсе проектов Судебного квартала в Санкт-Петербурге, однако впоследствии, увы, был отстранен.
Дворец танца Бориса Эйфмана в петербургском Судебном квартале — проект Максима Атаянца
И, напоследок, если кому интересны современные попытки создания качественной классической архитектуры, то может почитать статьи из «Project Classica» (www.projectclassica.ru/)— ныне закрытого журнала, который на протяжении нескольких лет издавал наш главный архитектурный критик Григорий Ревзин.

Популярное видео
-

Евангелие дня. Чтимые святые дня. Прп. Амвро́сия Оптинского. (23.10.2020)
Громовы Валерий и Людмила · 606 просмотров -
25:38

"Два против одного"с Архимандритом Тихоном. Часть1
Сергей Серюбин · 997 просмотров -
03:59

Как затащить мужа в храм? Для женщин. Хорошая или дура.
аккаунт удален · 1078 просмотров