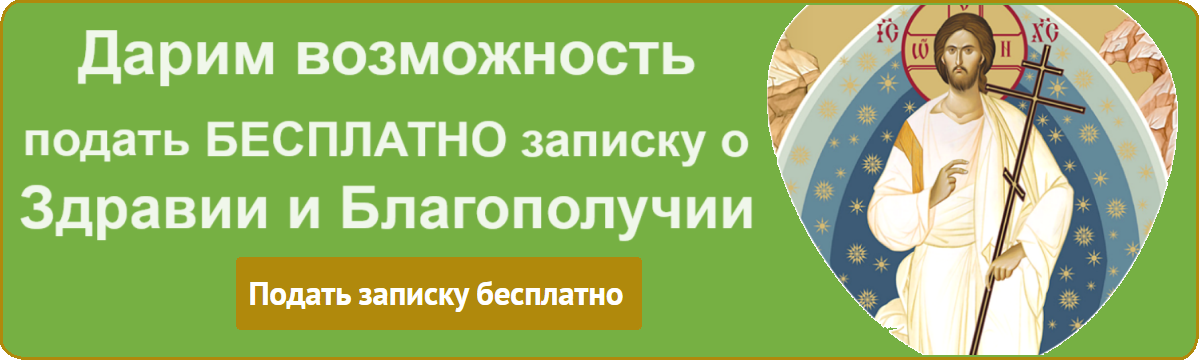Русская литература, XVIII векъ. Лирика ( часть I )
Русская литература. Век XVIII. Лирика
Отв. ред. Н.Д. Кочеткова. М.: Худож. лит-ра, 1990.
Во всех, во всех странах Поэзия святая
Наставницей людей, их счастием была,
Везде она сердца любовью согревала.
Н. М. Карамзин
Дух обновления, характерный для всей русской культуры XVIII века, в полной мере проявился и в поэзии. Именно в этом столетии произошла реформа русского стихосложения — утвердилась существующая доныне силлабо-тоническая система стиха, пришедшая на смену силлабической. В поэзии хорошо прослеживаются и разительные языковые изменения — от стихов петровского времени до произведений Державина, Карамзина и Дмитриева, которых по праву можно назвать непосредственными предшественниками Пушкина. Интенсивность развития — вот одна из важнейших черт русской литературы XVIII века вообще и русской лирики в частности.
Но что же такое лирика для этой эпохи? Не есть ли XVIII век в России время создания совершенно нового явления, которого не знала литература Древней Руси? Едва ли можно дать однозначные ответы на эти вопросы. И вот почему.
Если говорить о том, что называют «лирическим началом», то найти его можно у самых истоков литературы. Образцами высокой лирики были и остаются произведения русского фольклора, прежде всего народные песни, причитания. Всё это органично вошло в древнерусскую литературу. Что же касается русского стиха, то и его история, с одной стороны, неотделима от народного творчества, а с другой — связана с силлабическим стихотворством, достигшим своего расцвета в XVII веке.
Силлабическая система стихосложения, основанная на соизмеримости строк по количеству слогов, развившаяся в русской поэзии под значительным воздействием польской культуры, предоставляла широкие возможности для изощренного версификаторства, характерного для искусства барокко. Увлечение стихотворством приобретает всё более значительные размеры: оно проникает и в учебные и в богослужебные книги. Силлабики с легкостью сочиняют своеобразные объемистые трактаты в стихах, причем счет строк в отдельных произведениях идет на тысячи. Однако только в XVIII веке появляются силлабики, осознающие, что «поэзия и стихотворство — разные вещи».[1]
Речь идет о Стефане Яворском и Феофане Прокоповиче — крупнейших писателях петровского времени. Оба они, оказавшиеся непримиримыми врагами в жестокой политической борьбе, были яркими личностями, оба были прекрасно образованны, оба были наделены истинным поэтическим дарованием. Свое лучшее стихотворение (элегия к библиотеке) Стефан Яворский написал на латинском языке, следуя традиции новолатинской поэзии, существовавшей и в европейской и в русской литературе. Глубокий лиризм, отличающий это произведение, сохранен и в русском переводе XVIII века, представленном в настоящем издании. Самая тема смерти, трактовавшаяся в русской силлабике прежде всего в дидактическом плане, оказалась здесь овеяна ощущением подлинной земной человеческой печали. Любовное отношение к книге, поэтизация самого книгособирательства — вот еще лирическая тема, к которой, вслед за Стефаном Яворским, обратятся многие русские поэты и XVIII века, и последующих двух столетий. Вспомним, как умирающий Пушкин, глядя на свои полки с книгами, прошептал: «Прощайте, прощайте».
Силлабика — органичная, неотъемлемая часть русской лирики XVIII века. Можно заметить, в частности, важную особенность в ее развитии. Лучшие из написанных в Петровскую эпоху стихов оказываются связаны с обстоятельствами жизни самого автора. Так, например, в стихотворении Феофана Прокоповича «Плачет пастушок в долгом ненастьи» языком аллегорий говорилось о трудных временах, которые пришлось пережить поэту после смерти Петра I. С этого произведения и ответа на него Феофила Кролика прослеживается в XVIII веке целая традиция стихотворных диалогов: «Лето» Г. Р. Державина — «К Гавриилу Романовичу Державину» И. И. Дмитриева; «Стихи на жизнь» Н. С. Смирнова — «Возражение» И. И. Бахтина — «Ответ с теми же рифмами» Н. С. Смирнова и т. п.
Главное же, что роднит силлабиков начала столетия с последующей лирикой, — обращение к нравственно-философской проблематике. Размышления о добре и зле, жизни и смерти, законах совести и надеждах на счастье — все эти темы можно найти уже в стихах Стефана Яворского, Феофана Прокоповича, И. Максимовича, А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского.
В рукописях сохранилось немало произведений силлабической поэзии. Далеко не всегда определенно решается вопрос об их авторстве: некоторые стихотворения приписываются одному поэту, а потом выясняется, что они принадлежат другому (например, одно из публикуемых стихотворений Феофана Прокоповича атрибутировано ему совсем недавно, а раньше оно считалось принадлежащим А. Д. Кантемиру). Многие стихи не только в рукописях, но и в печатных изданиях помещались без подписи, и автор определялся по позднейшим сборникам, собраниям сочинений, свидетельствам современников и т. д. Однако постепенно в течение столетия все больше развивалось представление об авторстве: читателю становилось интересно, кто именно написал то или иное стихотворение, а самому поэту хотелось, чтобы читатель это знал. Тем не менее анонимные публикации встречаются на протяжении всего века, и до сих пор не всегда удается определить их автора.
Переход от силлабической системы к силлабо-тонической, основанной на упорядоченном чередовании ударных и безударных слогов, совершился в русской поэзии достаточно быстро, хотя далеко не мгновенно.[2] Тенденция к тонизации была обусловлена самим характером русского языка, в котором ударение не фиксируется на определенном слоге, как, например, в польском — на предпоследнем или во французском — на последнем. Теоретиками новой системы стихосложения выступили сами поэты: начал реформу В. К. Тредиаковский, окончательно осуществил ее М. В. Ломоносов. Благодаря их ожесточенным спорам в 1730—1750-е годы, в которых живейшее участие принял и А. П. Сумароков, их литературным опытам и поэтическим состязаниям к середине столетия не только утвердилась силлабо-тоническая система, но были выявлены многие из ее богатых ритмических возможностей.
Переход к новой системе стихосложения осуществился в период, когда русская поэзия стала обретать права на общественное признание с помощью печати. Отдельными изданиями стали выходить стихи, приуроченные к официальным торжествам. Важнейшим фактором, способствовавшим читательскому интересу к литературе вообще и к поэзии в частности, явилось развитие русской периодической печати. Стихи часто печатались в приложении к газете «Санкт-Петербургские ведомости» — журнале «Примечания к ведомостям». Первый русский журнал, издававшийся Академией наук — «Ежемесячные сочинения» (1758—1764), — еще больше стал уделять внимания публикации стихотворений. Здесь стали появляться произведения Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова, а также поэтов второстепенных: А. А. Нартова, А. В. и С. В. Нарышкиных и других.
По преданию, Петр I назвал Тредиаковского «вечным тружеником», и это определение может быть отнесено и к его поэтической деятельности. Всё, что написано им в стихах (не говоря уже о прозе), велико по объему и исключительно разнообразно по тематике, метрике, жанрам. Несмотря на присущее Тредиаковскому «чувство изящного» (слова А. С. Пушкина), большинство его произведений отличается нарочитой стилистической и звуковой затрудненностью. Читать эти стихи было нелегко уже его современникам, которые их пародировали и высмеивали. Однако к концу века опыты Тредиаковского в области стихосложения, в особенности по созданию русского гекзаметра, привлекли к себе внимание А. Н. Радищева (его трактат «Памятник дактило-хореическому витязю»). Примером использования гекзаметра в русской лирике явилось «Осьмнадцатое столетие» Радищева — одно из лучших стихотворений в русской поэзии.
По мнению Радищева, Тредиаковский «разумел очень хорошо, что такое стихосложение», но, «по несчастью его, он писал русским языком прежде, нежели Ломоносов впечатлел россиянам примером своим вкус и разборчивость в выражении и в сочетании слов и речей».
Знаменитая ломоносовская теория трех штилей, использовавшая предшествовавшую европейскую и русскую традиции, в наиболее существенных чертах определила пути дальнейшего развития русской лирики XVIII века. Ведь стили закреплялись за жанрами, а представления о жанре в XVIII веке, как ни в каком другом столетии, приобрели для русской поэзии и литературы в целом первостепенное значение.
Подобно петровской «табели о рангах», четко определявшей положение человека на сословной лестнице, жанровая система вносила строгую упорядоченность в литературное творчество. Лирические жанры в большинстве своем вовсе не были новыми: какие-то из них существовали в фольклоре и в силлабической поэзии (песня, эпитафия, стихотворное послание). С другими русские авторы знакомились по античной и европейской поэзии. Как своеобразный жанровый кодекс было воспринято «Поэтическое искусство» (1674) Н. Буало. Вместе с тем русским литераторам XVIII века предстояло разработать собственную систему жанров, представив их отечественные образцы. При этом важнейшим условием творчества стало считаться знание особенностей жанров, «различия родов», по выражению Сумарокова.
Казалось бы, создание жанровых канонов могло затормозить развитие литературы и особенно лирики, требующей в первую очередь проявления индивидуального начала. Однако этого не случилось. На протяжении всего столетия шел постоянный процесс противоборства: чем ощутимее становилась регламентация, тем сильнее подспудно росло сопротивление предписанным правилам, прорываясь к концу века откровенными протестами. К этому времени уже существенно сместились представления о жанровой иерархии, о высоком и низком. Это «движение» жанров, связанное с общей эволюцией культурного сознания, — особая тема. Не забегая вперед, отметим лишь, что всякое отступление от канона обретало ценность именно в соотнесенности с действовавшей жанровой системой, на фоне этой системы.
Изначально явное предпочтение отдавалось высокому жанру оды, занявшему совершенно особое, ключевое место. Так или иначе отношение к одическому жанру стало определять позицию каждого поэта XVIII века.
Обычно ода предназначалась для публичного торжественного прочтения перед тем высокопоставленным лицом, кому она была адресована. Поэтому этот жанр становился как бы частью своеобразного театрального церемониала, в котором автор выступал и как исполнитель. Тредиаковский демонстрировал униженность своего положения панегириста, читая свои стихи Анне Иоанновне, стоя на коленях, как рассказывают об этом мемуаристы XVIII века. К счастью, такие времена скоро миновали, и другие одописцы уже не стали следовать этому обычаю.
Тем не менее похвальная ода с ее обязательной комплиментарной частью неизбежно становилась не только поэтическим, но и своего рода нравственным испытанием.
«Упрямка славная», чувство собственного достоинства, глубоко присущие Ломоносову, оказались надежной защитой от грозившей опасности лицеприятства. В его одах есть похвалы владыкам, но нет и оттенка раболепия, искательства. Возвышаясь силой своего могучего воображения «на верх Олимпа», поэт не говорил, а вещал, выступая в качестве провозвестника высших истин, обращаясь к царям на языке богов, доступном только поэту.
Оды Ломоносова, начиная с его первой оды «На взятие Хотина» (1739), явили собою классический образец русской оды с десятистрочной строфой и четырехстопным ямбом. Впрочем, сразу важно уточнить, что эта форма была принята преимущественно для похвальной оды. Другие же разновидности жанра (духовная, натурфилософская, позднее нравоучительная) большей частью не были ориентированы на этот канон. Свои отличия имела и анакреонтическая ода, о которой речь впереди.
Опираясь на опыт античной и европейской лирики, в частности немецкой (оды И.-Х. Гюнтера), Ломоносов сумел дать новую жизнь жанру, возможности которого в европейской поэзии, казалось, были уже исчерпаны. Созданные поэтом оды продолжают «пленять ум» своей неповторимой красотой и величием на протяжении веков.
Размышляя о судьбах страны, ее прошлом и будущем, развивая темы науки, мира, славы России, Ломоносов стал создателем целой традиции в отечественной поэзии, которая, по существу, противостояла проникнутой раболепием сервильной оде. Огромное значение имела и созданная Ломоносовым система образов, его возвышенный стиль. С метафорическими образами читатель встречается с первых строк почти каждой ломоносовской оды. Так, наиболее известная ода 1747 года начинается с воссоздания образа «возлюбленной тишины», которая рассыпает «щедрою рукою // Свое богатство по земли» и которая так прекрасна, что на нее любуется «великое светило миру» — солнце. Насыщенность аллегориями, смелая метафоричность — всё это открывало новые возможности для развития поэтического стиля.
То же самое можно сказать и о натурфилософских одах Ломоносова, которые вместе с тем остаются особым, неповторимым явлением в русской и даже мировой лирике. Трудно было следовать по стопам поэта-ученого мирового масштаба, автора удивительных по глубине научной мысли «размышлений» о природе солнца или северного сияния. Правда, «космические» темы нашли свое продолжение в отечественной поэзии: в конце века они начали звучать в творчестве С. С. Боброва. Как ни скромен его талант, по сравнению с Ломоносовым, — это одно из звеньев эстафеты, переданной XIX столетию.
Собственно духовные оды Ломоносова (переложения псалмов и «Ода, выбранная из Иова») органично вошли в традицию, начатую на Руси еще в XVII веке Симеоном Полоцким, продолженную Тредиаковским и привлекавшую внимание почти всех наиболее замечательных лириков XVIII века: А. П. Сумарокова, М. М. Хераскова, И. Ф. Богдановича, Н. П. Николева, Г. Р. Державина, Е. И. Кострова, И. А. Крылова, И. И. Дмитриева и многих, многих других. Обращение к одним и тем же библейским текстам открывало возможности для своеобразных поэтических состязаний, выявляло индивидуальный почерк каждого автора. В этих переложениях слышалось и осуждение царящего в мире зла, и надежда на торжество справедливости, и страстная мольба попавшего в беду человека о защите и помощи. «Вечные» темы мировой поэзии здесь вновь обретали свое собственное выражение, новые и новые оттенки. В известном смысле этот жанр оказался менее каноничен, чем похвальная ода.
Духовные оды Ломоносова, в отличие от похвальных, не были восприняты современниками и ближайшими поколениями как непреложный образец, но позднее на особое достоинство этих стихов обратил внимание А. С. Пушкин, отметивший, что «сильные и близкие подражания высокой поэзии священных книг суть его лучшие произведения».[3]
Перелагая библейские тексты, Ломоносов избегал чрезмерной выспренности, сравнительно мало употреблял славянизмы, находя предельно простые общепонятные слова, озарявшие древние истины новым светом:
Никто не уповай во веки
На тщетну власть князей земных:
Их те ж родили человеки,
И нет спасения от них.
Обычно с именем Ломоносова — и это вполне закономерно — связано представление о высокой лирике, наполненной глубоким общественным и философским содержанием. Чаще всего при этом ссылаются на известное программное стихотворение Ломоносова «Разговор с Анакреоном» (1747), в котором анакреонтической поэзии противопоставляется та, которая воспевает «героев славу вечную». Но в то же время мастерские переводы анакреонтических од, включенные в текст стихотворения, свидетельствуют и о причастности Ломоносова к богатой традиции в русской поэзии, связанной с именем Анакреона — начатой еще Кантемиром и достигшей своего расцвета в творчестве Державина. Так в поэзии Ломоносова наметились основные, магистральные пути дальнейшего развития лирики XVIII века.
Правда, из непосредственных учеников Ломоносова можно назвать немногих, прежде всего Н. Н. Поповского — одаренного поэта, к сожалению рано умершего. Как и положено достойному ученику, он явился не подражателем, не копиистом; ему принадлежит заслуга введения в отечественную поэзию горацианских тем. Созданные им переводы од Горация в художественном отношении более совершенны, чем многие последующие, не говоря уже о предшествовавшем опыте Тредиаковского. Переводы Поповского, по существу, стоят у истоков целой традиции русской горацианской оды, приобретшей свои характерные черты в творчестве Г. Р. Державина или В. В. Капниста. Горацианские мотивы органично вошли в русскую философскую поэзию, получив в ней новое звучание.
Ломоносов выбрал одну, хотя, может быть, и самую замечательную оду Горация и написал стихотворение «Я знак бессмертия себе воздвигнул...», проложив путь к шедеврам Державина и Пушкина. Поповский же удивительно своевременно привлек внимание русских поэтов к одическому творчеству Горация в целом: созданный им цикл как бы противостоял торжественной похвальной оде, необходимую дань которой отдал и сам переводчик. В горацианской оде речь шла не о подвигах героев, но о печалях и радостях обыкновенного человека, занятого своими земными заботами и размышлениями о праведном пути. Так горацианство способствовало развитию философии стоицизма, столь важной для русской поэзии и литературы в целом.
У многочисленных подражателей Ломоносова похвальная ода стала приобретать все более официальный характер. Неудивительно, что многие свободомыслящие литераторы настороженно и даже враждебно встретили «Оду на карусель» (1766) В. П. Петрова, которого Екатерина II пыталась провозгласить «вторым Ломоносовым».
Борьба против Петрова явилась, по существу, одним из свидетельств того, как высок и даже священен был авторитет Ломоносова в глазах большинства писателей XVIII века. Каждое новое поколение по-своему интерпретировало его творчество, находя в нем созвучные идеи, темы, образы. Споря с Ломоносовым, в чем-то продолжали у него учиться и Радищев, и Карамзин, и Дмитриев.
Иные судьбы были у лирики Сумарокова, которого многие современники называли своим учителем, считая его главой целой поэтической школы. Менее всего этой репутацией он был обязан своим одам. Сумароков выступил создателем так называемой «сухой» оды: в отличие от ломоносовской, насыщенной метафорическими образами, эмоциональной по всему своему характеру, ода Сумарокова строилась преимущественно на логическом развитии определенной темы, что придавало ей большую рассудочность. «Холодный Сумароков», как его назвал А. С. Пушкин, скептически относился к тому «великолепию», в котором он не видел «ясности». Но, при всех различиях с ломоносовской, ода Сумарокова сохраняла с ней и определенную общность, поддерживая представление об этом жанре как «высшем виде лирики».[4]
Тем не менее для последователей Сумарокова несравненно важнее, чем его оды, оказались другие жанры.
Важной заслугой поэта было обращение к самым разным лирическим жанрам. В большинстве случаев он не был первооткрывателем: отчасти ему предшествовали силлабики, и особенно Тредиаковский. Но так же, как русская ода, по существу, начинается все-таки не с Тредиаковского, а с Ломоносова, так и элегия — с Сумарокова. Этот жанр, которому суждена была такая счастливая судьба на русской почве, приобрел у Сумарокова достаточно устойчивые черты: в элегии стала доминировать любовная тема с ее характерными коллизиями (разлука с возлюбленной, ее измена и т. п.); выработалась определенная система образов и самый стиль, включая устойчивые фразеологизмы («стесненный дух», «несносная мука», «лютая страсть»); за жанром закрепился достаточно надолго один и тот же метр — александрийский стих. Этот тип элегии варьировался уже многочисленными современниками Сумарокова (А. А. Нартовым, А. В. и С. В. Нарышкиными, А. А. Ржевским и др.) и сохранился в русской поэзии вплоть до 1790-х годов (например, элегии И. Б. Лафинова). Правда, в конце века подобные стихи выглядели уже несколько старомодно, но в свое время узаконение элегии как жанра утверждало и права любовной лирики. Еще Тредиаковского, осмелившегося напечатать свой перевод аллегорического галантного романа П. Тальмана «Езда в остров Любви» с приложением собственных любовных стихов (1730), называли «развратителем русской молодежи». Сумароков же в «Эпистоле о стихотворстве» (1747), наставляя «стремящихся на Парнас», вслед за Н. Буало, обращает их внимание и на элегию:
Когда ты мягкосерд и жалостлив рожден
И ежели притом любовью побежден,
Пиши элегии, вспевай любовны узы
Плачевным голосом стенящей де ла Сюзы.
Упоминание графини Г. де ла Сюз, французской поэтессы XVII века, прославившейся своими элегиями, обращение в другом стихотворении («Жива ли, Каршин, ты?..») к «германской Сафе» — немецкой поэтессе А.-Л. Карш (Каршин), современнице Сумарокова, — все это не только вводило русскую любовную лирику в контекст европейской поэзии, но и обращало внимание на причастность женщин к литературе, поощряя молодых россиянок к вступлению на поэтическое поприще. Неудивительно, что среди первых русских поэтесс XVIII века оказалась дочь Сумарокова, вышедшая затем замуж за драматурга Я. Б. Княжнина. Если она еще печатала стихи анонимно, то Е. В. Хераскова, жена М. М. Хераскова, уже ставила при публикациях свои инициалы, и об ее авторстве хорошо знали в литературных кругах, называя ее «российской де ла Сюзой».
Для поэтов и поэтесс 1760-х годов Сумароков оставался и образцовым автором в самых разных лирических жанрах, и наставником, к советам и рекомендациям которого внимательно прислушивались. Сумароков стремился обособить каждый жанр — всему следовало найти соответствующие формы выражения: героическому подвигу — одно, любовной тоске, горести об ушедшем друге — другое, радости при ощущении счастливой безмятежной любви — третье. Важно было закрепить эту форму раз и навсегда и не смешивать разные жанры — таковы непреложные требования классицизма. На практике, однако, все оказывалось гораздо сложнее.
Как и в европейской поэзии, в идиллии и эклоги Сумарокова и его последователей могли проникать элементы элегии. И то и другое воздействовало на жанр литературной песни, приобретший широкую популярность и узаконенный опять-таки благодаря Сумарокову. Кантемир, писавший в юности песни, говорил позднее, что сочинение любовных песен — дело тех, «коих... ум неспел». Слава «нежного автора» смущала и Сумарокова, гордившегося прежде всего своими трагедиями и «высокой» лирикой. Но декларированное писателем в спорах с Ломоносовым требование ясности и простоты наиболее полно реализовалось не в одах и даже не в элегиях, а именно в песнях.
Совершенно естественно и органично входила в этот жанр и устная народная поэзия. Взаимодействие фольклорной и литературной песни (не только любовной, но и солдатской), осуществленное в творчестве Сумарокова, оказалось процессом, определившим развитие жанра на протяжении всего XVIII века и получившим продолжение в XIX столетии. Характерно, в частности, что ближайшим последователем Сумарокова в этом направлении стал М. И. Попов, проявлявший устойчивый интерес и к древней славянской мифологии, и к отечественному фольклору. Песня была — наряду, может быть, только со стихотворным посланием — наиболее свободным и гибким лирическим жанром, не скованным определенными ритмическими требованиями.
Между тем Сумароков, вслед за Тредиаковским, но с несравненно большим успехом, начал освоение самых разных стихотворных форм: станс, сонет, рондо и т. д. Тематически эти стихотворения нередко сближались с элегией и одновременно открывали новые возможности для развития русской медитативной лирики.
«Примером жанрового мышления эпохи» Г. А. Гуковский удачно назвал анакреонтическую оду, выделив ее как особый жанр русской лирики XVIII века.[5] Анакреонтическая ода, или анакреонтические стихи, — это вовсе не обязательно перевод или подражание Анакреону. При свободно варьируемой тематике (преимущественно, однако, мажорной тональности) эта ода отличалась прежде всего отсутствием рифмы и совпадением стиха с синтаксической единицей фразы, а также женским окончанием:
Завидны те мне розы,
Которы ты срываешь.
К чему тебе уборы?
Прекрасней быть не можешь!
Эти начальные строки «Оды анакреонтической» (1755) Сумарокова дают представление о звуковой структуре жанра, продолжавшего привлекать внимание русских поэтов до самого конца столетия. Впрочем, может быть, вернее было бы говорить все-таки о стихотворной форме, а не жанре, учитывая разнохарактерность содержания анакреонтической оды.
Так, уже у Хераскова эта ода превращается в философскую медитацию («О разуме», «О злате» и др.). Херасков — поэт, сумевший уловить важные тенденции эпохи и щедро награжденный за это современниками, которые на протяжении нескольких десятилетий произносили его имя с восторгом и почитанием. Вокруг Хераскова и сплотилась так называемая сумароковская школа (А. А. Ржевский, В. И. Майков, И. Ф. Богданович и др.) — литераторы, сотрудничавшие в журналах «Полезное увеселение» (1760—1762), «Невинное упражнение» (1763), «Свободные часы» (1763), «Доброе намерение» (1764).
Отдавая дань традиционной похвальной оде, Херасков и его приверженцы с большим энтузиазмом и несомненно с большим результатом взялись за разработку иных жанров. Сам Херасков выступил создателем нового типа оды — «нравоучительной», написанной, в отличие от анакреонтической, рифмованным ямбом и, в отличие от похвальной, не разделенной на строфы.
Постепенно формальные признаки одического жанра начинали все заметнее размываться. Одновременно и темы «философических» од (восхваление добродетели, сетования на скоротечность и суетность жизни, размышления о счастии и т. п.) перекочевывали в стансы, сонеты, рондо, даже в эпитафию и эпиграмму, если она сохраняла исконное значение краткой надписи, вовсе не обязательно сатирического характера, например эпиграммы Богдановича. Вместе с тем особый интерес стали вызывать всевозможные поэтические эксперименты, блестящим мастером которых выступил Ржевский: его ода из односложных слов, сонеты на заданные рифмы, сонеты, рассчитанные на три способа прочтения и т. д. Такие эксперименты не только демонстрировали богатые метрические и ритмические возможности русского стиха, но по-своему помогали отказаться от той категорической однозначности и строгой регламентации, к которой обязывала теория классицизма. Превознося красоту в одной оде (лишенной, кстати, уже формальных жанровых признаков), Богданович опровергает эти мысли в другой, используя те же самые рифмы. У Майкова, а затем и других поэтов появляются оды, обращенные, подобно посланию, к определенному адресату: «Ода Платону о бессмертии души» и другие. У Я. Б. Княжнина ода оказывается посвящена пейзажной зарисовке, соприкасаясь с идиллией: «Утро. Ода». Подобные попытки обновления жанра были, несомненно, плодотворны.
Но подлинно новую жизнь ода получила в творчестве самого замечательного лирика XVIII века — Г. Р. Державина. Широкую известность и признание, прижизненную славу ему принесла, несомненно, «Фелица» (1783). В. Ф. Ходасевич заметил, что «в поэтическом отношении эта слава была бы справедливее, если бы последовала тотчас за стихами на смерть Мещерского».[6] Для современного читателя стихотворение «На смерть князя Мещерского» (1779) скорее всего покажется даже более значительным и совершенным, чем «Фелица».
Каждое из этих стихотворений связано с разными жанровыми традициями: первое — с философской одой, второе — с одой похвальной. Но ведь с этим жанром было сопряжено представление о недосягаемых высотах ломоносовской оды. Ее последователи неизбежно повторяли устоявшиеся штампы, и сказать здесь поистине свежее слово было особенно трудно. Державину это удалось. «Фелица» — ода с традиционной строфикой, написанная традиционным четырехстопным ямбом, посвященная традиционной теме. Но эта ода настолько необычна, настолько непохожа на все, что существовало раньше. Императрице, как известно, весьма польстил портрет «богоподобной царевны», изображенной так по-человечески, с упоминанием о «простой пище» за ее столом, о ее пеших прогулках и т. д. Абстрактные одические образы стали приобретать конкретность: цари-боги были сведены на землю. Сам поэт тоже как будто демонстративно отказывался от миссии пророка, возглашающего истины владыкам:
Пророком ты того не числишь,
Кто только рифмы может плесть<...>
Читатели с удивлением могли заметить, что в оду проникли элементы сатиры, изменилась привычная система образов, стиль, самая интонация. Обновляя содержание оды, Державин отказался и от стереотипов одической рифмы он смело начал вводить новые созвучия. Ораторскую интонацию заменила разговорная, простодушно-доверительная, порою саркастическая.
От оды Ломоносова у Державина сохранилось, однако, очень существенное: гражданственный характер, стремление деятельно участвовать в решении важнейших общественных вопросов, выдвижение развернутой политической программы. Сохранилось и другое: чувство собственного достоинства, присущее поэту, независимость его суждения, откровенно просвечивающие через все похвалы и лестные слова.
Интересные личности
- Протоиерей
- Протоиерей
- Священник
- Священник