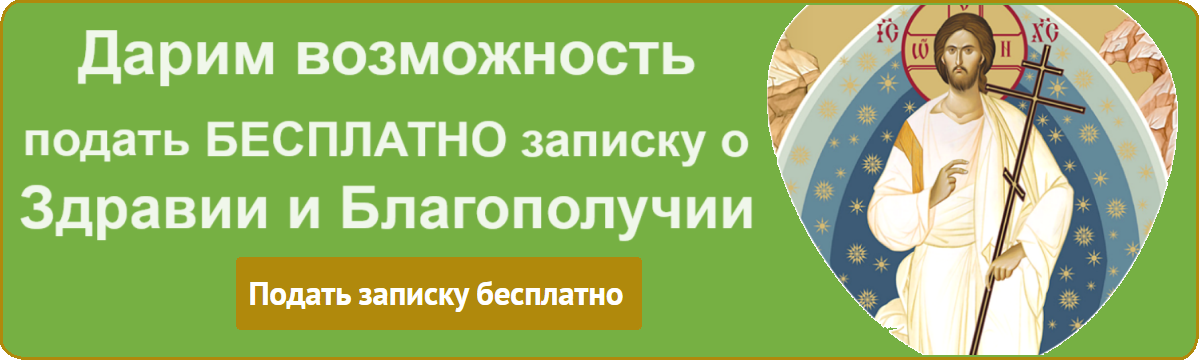Иеромонах Симеон (Мазаев) Гениий и злодейство
Цитадель — внутренняя, наиболее защищенная
и неприступная часть крепости;
в старинных городах: замок,
господствующий над городом.
Толковый словарь иноязычных слов
Рассуждение о гении и злодействе в области искусства можно было бы построить следующим образом: найти компонент гениальности, без которого ее невозможно помыслить, а затем показать несовместимость этого элемента с пороком. Таким образом, с очевидностью демонстрировалась бы справедливость пушкинского суждения, послужившего отправным пунктом нашего исследования.
Один из булгаковских персонажей — поэт Рюхин — разглядывая памятник Пушкину на Страстном бульваре, размышлял:
- Вот пример настоящей удачливости... какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу, все обращалось к его славе! Но что он сделал? Я не понимаю... Что-нибудь особенное есть в этих словах: «Буря мглою...»? Не понимаю!.. Повезло, повезло!.. стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмертие...
Думается, этим эпизодом Булгаков стремился развеять у читателя всякие сомнения относительно одаренности Рюхина как поэта. И действительно, разве не должен гений искусства в обязательном порядке обладать абсолютным вкусом к прекрасному? Под вкусом я подразумеваю умение читать, слышать и видеть прекрасное в творениях «товарищей своих в искусстве дивном» и самостоятельно отыскивать гения в многочисленных произведениях живописи, музыки, литературы, не следуя при этом вслед за суждением «бессмысленной толпы».
Доктор Ватсон, конечно же, мог увидеть правильное решение задачи, но только после того, как она уже была решена, и под жестким «научным руководством» Холмса. Так и человек, не отличающийся гениальностью, различает великие произведения и посредственные, в основном, задним числом, подчиняясь авторитету традиции. Пушкин — гений, потому что иначе ему бы не установили памятник на Страстном бульваре. Но если нет памятника, он растерян и затрудняется с уверенностью указать на выдающегося художника-современника.
Вкус нельзя отнести к числу вещей, которые изначально «либо есть, либо нет». Он способен ослабевать и утрачиваться, развиваться и достигать превосходной степени. Об этом убедительно говорит Экзюпери: «...и умеющим наслаждаться поэзией стихи не всегда в радость, иначе бы они никогда не грустили, они бы читали стихи и ликовали. Все человечество читало бы стихи и ликовало, и больше ему ничего не было бы нужно».[22]
Если так, то отчего же зависит вкус? Какие факторы непосредственно определяют способность человека находить прекрасное?
«Меня не удивляет, что так много людей не находят царства в царстве, храма в храме, поэзии в стихах и музыки в музыке. Они расселись, как в театре, и говорят: "Вокруг — сплошной хаос. Он недостоин того, чтобы служить ему и подчиняться"... Чтобы насладиться поэзией, нужно дотянуться до нее и преодолеть... Чужие стихи — тоже плод твоих усилий, твое внутреннее восхождение... Всякое восхождение мучительно. Преображение болезненно. Не измучившись, мне не услышать музыки. Страдания, усилия помогают музыке звучать»[23].
Дотянуться и преодолеть. Внутреннее восхождение. Болезненное преображение. О чем это говорит Экзюпери? В чем усматривает он причину способности читать, слышать и видеть? Нетрудно догадаться, что речь здесь идет об аскезе.
Большинство людей по привычке связывают аскезу исключительно с сотериологической целью. Для чего постится монах? «Спасает душу», — скажет простец, пребывая в наивной уверенности, будто Богу угодно слышать, как урчит мой пустой желудок. Между тем истинная цель аскезы была хорошо знакома уже языческим философам за несколько столетий до Рождества Христова. Идея воздержания появляется как способ разрешения одной деликатной проблемы.
Однажды мы с моим другом, директором нефтеторговой компании, «сидели за одной трапезой» в шикарном московском ресторане. Глядя на роскошный стол, он как-то грустно сказал:
— Знаешь, нас в семье было трое братьев. Мать растила нас одна и работала конструктором в совковом НИИ. Мы не голодали, но жили более чем скромно. По воскресеньям нас навещал дядя и всегда привозил гостинец — коробку овсяного печенья. Мы растягивали удовольствие на целую неделю, разделив его на троих так, что в день на каждого из нас приходилось ровно по половинке. Я помню, как это было здорово. Сейчас я могу позволить себе все, но, веришь ли, весь этот стол я отдал бы за ту самую половинку овсяного печенья.
- В чем же проблема? — спросил я. — Построй рядом с домом кондитерскую фабрику.
- Видишь ли, — отвечал мой друг, — проблема во мне: я перестал быть бедным ребенком, многое перепробовал, и меня больше не впечатляет овсяное печенье.
И действительно, это серьезная проблема. Чувства теряют упругость от изобилия впечатлений. Зрение ухудшается от яркого света, слух притупляется от слишком сильных раздражителей. Городской человек неспособен расслышать в лесу шорох листьев под чьей-то осторожной лапой, что у какого-нибудь деревенского «пасынка природы» с ружьишком на плече вызывает немалое удивление: вы что там, в Москве, глухие, что ли?
Вот и Диоген Синопский, размышляя о счастье, подобно многим другим собратьям по любомудрию, понял: «проблема во мне». И переселившись в пифос — большую глиняную бочку, — попытался стать «бедным ребенком», способным испытывать совершенную радость от половинки овсяного печенья. Как сообщает Лаэртский[24], он приучился довольствоваться самым малым, не пил ничего, кроме обычной ключевой воды и съедал только то, ради чего не нужно было каждый день ходить на работу: дикорастущие плоды смокв и оливы. Трудился он исключительно по вдохновению, свободно выбирая, с кем разделить их дневные заботы — с каменщиками, земледельцами или виноградарями. Делал он это главным образом ради того, чтобы сполна наслаждаться вечерним отдыхом и сном, считая дневную усталость лучшим средством от бессонницы и голод — совершенной приправой к любому блюду. Диоген был далек от сотериологических ожиданий, однако же постился, справедливо усматривая в воздержании секрет удовольствия. Кому-то это может показаться парадоксом, но для того чтобы научиться наслаждаться, нужно научиться поститься.
Аскеза, «тренирующая» чувственность, приобретает исключительную роль в сфере творчества и, вообще-то, неразлучно сопровождает художника в его пути: «Чтобы насладиться поэзией, нужно дотянуться до нее и преодолеть. Доступные стихи быстро изнашиваются сердцем, так же быстро, как открывшийся с вершины пейзаж. Усталость и желание отдохнуть придали ему столько прелести, но вот ты отдохнул, тебе хочется идти дальше, и ты зевнул, глядя на пейзаж, которому больше нечего тебе предложить»[25].
Пожалуй, любому художнику знаком особый род разочарования, наступающий при критическом перечитывании написанного: заметна досадная разницу между предметом, вызвавшим прилив вдохновения, и его материальным отпечатком в виде текста на листе бумаги. В этот момент особенно понятна мысль Пушкина:
На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслажденьем,
С неодолимым отвращеньем:
Так безрасчетный дуралей,
Вотще решась на злое дело,
Зарезав нищего в лесу,
Бранит ободранное тело;
Так на продажную красу,
Насытясь ею торопливо,
Разврат косится боязливо...[26]
Период «охлаждения» может привести к разочарованию и к одной, несомненно, ложной и крайне пагубной мысли, способной превратить творца в скопца: «Мысль изреченная есть ложь». В этом случае будет уместен совет: почитай кого-нибудь из великих и ты увидишь, что с их текстами происходит ровно то же самое. Не так давно ты сидел над этими строчками и в уме пульсировала и билась мысль: «Он гений! Гений! Продолжай, спеши еще наполнить звуками мне душу!» Но прошло малое время, и в том, что тебя так взволновало, ты видишь только мертвые камни слов — криво отесанные, порой плохо подогнанные друг к другу. Очевидно, что текст измениться не мог. Значит, изменился ты. Еще вчера видел истину лицом к лицу, оживленно беседовал с нею с глазу на глаз, но сегодня развратился и попросту перестал ее замечать. В творческой сфере, вероятно, лучше всего заметно это движение так называемого ползучего «невольного греха», следствия нашей поврежденной природы. В отличие от обывателя, художник может судить о том, что неявно для себя все же сделал что-то не то, замечая, как «охлаждение» к прекрасному сменяет вдохновение.
И красота, и любовь открываются только человеку, совершающему подвиг, через непрерывные духовные упражнения: «Если не изменяться день ото дня, словно в материнстве, не догнать любви. А ты хочешь усесться в гондолу и всю жизнь звучать песней — ты не прав. Вне пути и восхождения ничего не существует. Стоит остановиться, как тебя одолевает скука, потому что пейзажу больше нечего тебе рассказать, и тогда ты бросаешь женщину, хотя надо было бы выбросить тебя»[27].
Многие стремятся найти красоту или любовь, воспетую в поколениях, не уловив прежде ее сути, не проследив ее происхождения. Как часто человек пытается пробовать различные вина в надежде найти то, о котором царь Давид говорил: «...и вино веселит сердце человека». Но, заметив, что любое вино вызывает тошноту и боль, разочаровывается и подозревает обман. Хотя дело всего лишь в том, что у него язва желудка. Болезнь, которую требуется, потрудившись, излечить, тем самым устранив преграду между сердцем и весельем.
«Нет любви про запас, которую можно было бы тратить себе и тратить, любовь — труд сердца. Любовь не подарок от прелестного личика, безмятежность не подарок от прелестного пейзажа, любовь — итог преодоленной тобой высоты. Ты превозмог гору и живешь теперь в небесах. Любовь — то же восхождение. Не думай, что достаточно знать о любви, чтобы ее узнать. Обманывается тот, кто, блуждая по жизни, мечтает сдаться в плен; краткие вспышки страсти научили его любить волнение сердца, он ищет великую страсть, которая зажжет его на всю жизнь. Но скуден его дух, мал пригорок, на который он взбирается, жалка победа, так откуда взяться великой страсти?»[28]
Историки нередко выражают удивление тем, как быстро русскому народу удалось восстановить хозяйство и ликвидировать демографический кризис после Великой Отечественной войны. Свадьба в эти годы была заурядным явлением. Между тем тогдашние женщины, не имея косметологического досуга, занятые на производстве, походили на серых птичек в сравнении с современными модницами. Но, как всегда, дело было не в женщинах, а в том, что рядом с ними были победители. Не косметологи и визажисты, а Великая Аскеза 1941-1945 гг. научила мужчин исключительной любви.
Правы те, кому покажется, будто аскеза преследует какое-то тайное удовольствие, так что монаху и в самом деле, а не только на словах, отвратительна и скучна жизнь без подвига: «Всерьез любит воин, он узнал безбрежность пустыни, всерьез бьется за колодец влюбленный — он любит и не жалеет себя ради своей любви... Чем мужественней ты как воин, тем слаще любишь, а чем крепче любишь, тем лучше будешь воевать»[29].
Между тем подозревающих в аскезе тайное удовольствие немного. В основном, аскетов пытаются жалеть или даже «спасать» от тех невзгод, которыми они себя окружили. Наверное, никогда не успокоится голос, настойчиво предлагающий нам «подсократить посты и вообще соорудить скамейки в наших храмах по католическому образцу». Никогда девушки не перестанут жалеть однокурсника, ушедшего в монастырь.
Так «...женщина, заполучив тебя для своих ночей, познав сладость твоего ложа, обольщает тебя: "Разве плохо я тебя целую? Разве в нашем доме мало прохлады? Разве мы не счастливы вечерами?" И ты согласно улыбаешься в ответ. "Так оставайся со мной, оберегай меня, — продолжает она. — Стоит тебе захотеть, ты протянешь ко мне руки, и я склонюсь к тебе апельсиновой веткой, полной сладких оранжевых плодов. Жизнь в разлуке сурова, она отучает от ласки. Любовь твоего сердца уйдет в песок, как вода, лишившись возможности расцвести на лугу цветами".
Но ты-то успел узнать, как безудержно влечет тебя к той, чей образ подарен тебе ночным одиночеством, как украшает его тишина...[30]
Ты убежден: война отняла у тебя чудесную возможность любить. Но поверь, только разлука научит тебя любить по-настоящему. Ты научишься видеть голубизну долины, карабкаясь по скалистому склону к вершине. Ты научишься чувствовать Бога, безответно ему молясь.
Конечно, ты можешь обмануться и пожалеть воина, который тщетно зовет в ночи любимую и верит, что время течет для него бесплодно, отняв его драгоценное сокровище. Можешь тревожиться о неутоленной жажде любви, забыв, что суть любви — жажда. Знают об этом танцующие, танец сложен из приближений, а кто мешал бы им приникнуть друг к другу?
Повторяю: драгоценна неосуществленная возможность. Нежность среди тюремных стен — великая нежность. И молитва благодатна молчанием Господа. Шипы и кремни питают любовь...»[31]
Итак, аскеза — это труд, делающий человека способным достичь совершенной радости. «...В радость человеку только то, над чем он хорошенько потрудился, — так уж он устроен»[32], — резюмирует старый правитель, глядя на погруженное в заботы царство с высоты своей цитадели. Однако слово «труд» применительно к аскезе разъясняет еще далеко не все.
Дело в том, что существует две различных вещи, объединенных общим названием: труд раба и труд свободного. Раб под страхом смерти или наказания производит продукт, которым ему не суждено воспользоваться. Он старается для пользы другого. В этом случае даже усердие не прибавит рабу ни чести, ни славы. Этот труд не сделает его ни состоятельным, ни свободным.
Возможно, кто-то сочтет разговор о рабском труде неактуальным. Ничего подобного. Практически любое усилие, направленное на достижение внешней цели, грозит обернуться рабским трудом. Если я приобрел что-то в собственность или стяжал высокий социальный статус, я не могу быть до конца уверен, что поработал на себя. В конце-концов, право собственности — всего лишь право, и чем бы оно не было гарантировано, всегда может перейти к другому.
Что же такое труд свободного? В онтологическом смысле к нему может быть отнесена только аскеза. Продукт, произведенный аскетическим усилием, не подлежит отчуждению. Подвиг, совершенный мною, не нуждается в защите даже посредством авторского права, потому как не может быть объектом элементарного плагиата. Можно украсть у ветерана медали, но победителем от этого он быть не перестанет. Только аскетический труд приносит человеку царское достоинство и вместе с ним радость участия в пире жизни. Диоген вполне почувствовал это, отказавшись от покровительства, которое сильнейший из царей сам хотел было ему предложить.
Когда Александр Македонский был в Коринфе, он пришел посмотреть на Диогена. Тот лежал и грелся на солнце.
- Я Александр, царь Македонии, а скоро и всего мира, — сказал Александр. — Проси у меня, чего хочешь.
- Отойди и не заслоняй мне солнце, — ответил Диоген. Александр отошел и сказал друзьям:
- Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном[33].

Популярное видео
-
02:58

Чайковский - Слыхали ль вы (дуэт Татьяны и Ольги) - М. Павлова & Т. Корунова
Александр · 1457 просмотров -

Николай Носов. В памяти автора стиль изложения. Читал примерно 4-5 класс. До сих пор помню.
Валера Иньков · 1723 просмотра -
26:57

Подробный ответ А.И.Осипова на обвинение в ереси
аккаунт удален · 1734 просмотра