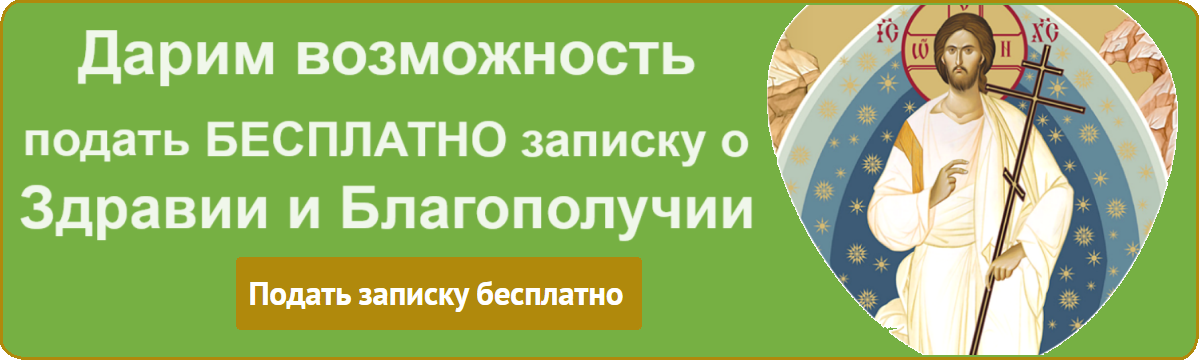Протоиерей Алексий Мокиевский: «Сан дает не радости и привилегии, а испытания и скорби»
Его отец был директором сельского клуба, а мать — учительницей музыки. Мальчик из семьи ярых атеистов пришел к Богу и стал священником. Настоятель Свято-Троицкого храма в селе Липин Бор Вологодской области, бакалавр богословия, писатель, отец пятерых детей и резчик по камню и дереву, отец Алексий Мокиевский рассказал cherinfo.ru о современных священнослужителях и коммерции в РПЦ.
— Отец Алексий, сначала хочется узнать вашу историю, понять, как человек из нерелигиозной семьи стал священником.
— Действительно, мои родители даже враждебно относились тогда к церкви. Помню, в юности увидел у режиссера Юрия Половникова икону в комнате. Для меня это было так странно: образованный, просвещенный человек, и вдруг — икона… Мне казалось, что это отсталость, ретроградство. Я был так воспитан. А приближение к церкви для меня началось с искусства и архитектуры, как ни странно. Я визуалист — рисую, режу по дереву, много чего творю. И как-то в книге «Мастера Русского Севера» я увидел фотографию иконостаса Троице-Гледенского монастыря. Это под Великим Устюгом. Там замечательные иконы и неповторимая резьба. Меня это фото потрясло. Я понимал, что это религиозное искусство, но вдруг увидел, что это шедевр. Подумал тогда: что это за Бог, который может так вдохновить человека? Мое детство проходило в местечке Сосновая Роща в Сокольском районе, и из нашей глухомани я поехал учиться в Ярославль. А там только в центре 47 церквей! Там даже обком партии стоит меж двух церквей! И я поразился архитектурой, красотой, величием…
— А наукой вам интересно было заниматься?
— Я хотел стать палеонтологом, но нас учили совсем не тому. В дипломе значилась узкая специальность — «Инженер по охране природы водной среды малых рек средней части Волжского бассейна». По сути, вся наша работа сводилась к тому, что мы новыми веществами, которые придумывали химики, травили в аквариумах дафний и циклопов и смотрели, сколько их сдохло и насколько они вредны при попадании в воду. Я пытался заниматься чем-нибудь своим, но все жестко пресекалось. И в один прекрасный момент я ушел. Но вернуться в Кадников было стыдно: родители очень гордились, что сын учится в приличном вузе. Из общежития выгнали, а тут мне знакомый предложил, раз я интересовался живописью, поучаствовать в реставрации церкви в одной деревне в Некрасовском районе. Это был 1989 год. Там жил молодой батюшка — монах, очень грамотный, начитанный. Я поехал, родители об этом не знали. В этой глухой деревне Макарово стояла церковь Рождества Богородицы в Озёрах, коммунисты почему-то забыли ее ограбить. Семиярусный иконостас, все иконы в серебре — там столько драгоценностей было, престол обложен чеканным серебром, облачения были все старинные, древние иконы. Но со временем все приходило в негодность, где-то надо было что-то почистить, крышу починить… Я там прожил без малого год.
— Когда уехали в деревню, продолжали общаться с внешним миром?
— Время от времени выбирался в Ярославль, рассказывал друзьям, в каком мире живу: книги, иконы, служба. Батюшка меня окрестил, я там впервые открыл Библию. Пытался ее почитать еще в студенчестве, но мне ее не дали. Оказалось, что Библию давали только студентам-историкам — и то по справке от декана факультета. А я был биологом. У батюшки была богатейшая библиотека по церковному искусству. Я все это впитал, как жаждущий путник, перешедший пустыню. И в конце концов открыл для себя православный мир. Выяснилось, что-то, что нам преподавали в школе, университете, — это только одна сторона луны. Отец Сергий хотел, чтобы я стал монахом, как и он, сделал из меня послушника, мы вместе молились, я присутствовал на всех службах. Но монаха из меня не вышло: я влюбился, попросил благословения у батюшки и уехал, и мы поженились с Еленой.
Оказалось, что Библию давали только студентам-историкам — и то по справке от декана факультета. А я был биологом.
— Вы вернулись в Ярославль?
— Да, восстановился в университете, проучился еще год. Потом Елена поняла, что у нас кризис высшего образования, и мы решили уйти вдвоем, перевелись на заочное в Ярославский пединститут и уехали педагогами в село, как народовольцы. Работали в школе, где было всего 12 учеников. Это было в Пошехонском районе. Помимо школьной программы я рассказывал детям про церковные праздники. Когда директор узнал об этом, а директор был старый большевик, и мы все жили в атмосфере 1937 года, там драконовская дисциплина была, так он на меня написал жалобу. Кричал: «Вы что, думаете, мы должны президентов выращивать? Мы должны выращивать работяг. Она им нужна, эта ваша классическая музыка и праздники церковные?» Мы бы еще, может, и поборолись с ним, но Елена забеременела. А медицинские учреждения были за 40 километров от деревни. И мы переехали в Кадников. Там я стал инструктором по труду в детском доме. Преподавал деревообработку на токарном станке — я любил это дело. Но когда родился первый ребенок, это был 1991 год, у нас уже все было по талонам, есть было нечего. Ребенку ни смеси, ни молока не купить… И нас позвала теща в Казахстан. Когда мы туда приехали, там реально все было хорошо, никаких очередей. И в 1992 году я стал священником.
— Как в 90-е в Казахстане уживались ислам и христианство?
— В Казахстане было две официальные конфессии — ортодоксальное мусульманство и православное христианство. На любом празднике должны быть батюшка и мулла. Мы встречались на трибуне, пожимали друг другу руки, и мне мулла говорил: «Здравствуй, коллега». Нам нечего было делить: у него своя паства, у меня — своя. В то время приходы открывались, были переполнены, народ ломился креститься, а священников не прибавилось. Когда я получил приход, то по площади он был равен Ярославской области, но там в основном степи, людей мало. Помню, однажды мы шли с матушкой и ее друзьями по бульвару, я был в подряснике, с крестом. Мы проходим мимо старушек, и одна другой говорит: «Вот молодежь распоясалась: попом одеться — ничего не стоит». Я хотел сказать, что я настоящий, а не ряженый. А потом подумал, что нужно заслужить, чтобы быть настоящим.
— А какой он — настоящий священник или современный священник? В советское время в церковь шли служить вопреки режиму, тяготам и лишениям. За веру могли даже жизнь отдать. И вы об этом рассказываете в своем романе «Незавершенная литургия». А сейчас как?
— Не человек приходит служить в церковь, а Господь его туда приводит. Иной рад этому, а иной — сопротивляется. Третий приходит ради одних резонов, а сталкивается с другими реалиями. Нужно быть готовым не столько к радостям и привилегиям, которые дает сан, сколько к испытаниям и скорбям. И многие уходят с этой дистанции. Мне довелось устоять, я чувствую себя состоявшимся священником. Те, кто сегодня приходят служить в церковь, не рванули бы куда-нибудь в откровенную дыру, как я. Им нужна зарплата, детей в школу водить, какие-то элементарные жизненные удобства, чтобы жена не пилила… Вот мы преодолевали непонимание общества, родных. Общество было неверующее, гонения еще не остыли. В Казахстане я столкнулся с этим очень близко, потому что туда многих ссылали за веру. Мы были первопроходцами, и у нас закалка была. Мы готовы были терпеть. А сейчас не надо бороться, главное — все успевать, народу много в храмах. Сейчас в глубинку уже никого не зашлешь, туда идут только монахи.
— Действительно, людей в храмах много, особенно в церковные праздники, но почему не наступает нравственного оздоровления общества? Наоборот, растет преступность, даже среди детей и подростков. Что это — показная вера, слабость человеческая или еще что?
— На общество церковь влияет службами, праздниками, публикациями в СМИ, а персонально — через беседы, исповеди, наставления. Церковь я бы уподобил некой совести общества. У каждого совесть есть. А скажите, все ли слушают голос своей совести? Не все. И иной раз умудряются с ней договариваться: один раз можно… А где один, там и второй. Получается, церковь делает свою работу, но последнее решение за человеком. И если он может поступиться своей совестью, то уж, наверное, не совесть в этом виновата. Мы живем в благополучном обществе, и многие восприняли, что так всегда и будет. Поэтому зачем меняться? Но стоит только свершиться какому-нибудь потрясению, настоящей беде — церкви будут набиты людьми. У нас как тревога — так до Бога. И мы предупреждаем, что пока все хорошо, нужно меняться.
Стоит только свершиться какому-нибудь потрясению, настоящей беде — церкви будут набиты людьми. У нас как тревога — так до Бога.
— Да, в России, когда случается беда, человек идет в церковь, а на Западе — к психоаналитику… Это тоже наш менталитет, отношение к вере…
— На западе многоконфессиональное общество. И общей практики для них быть не может — люди разной национальности, воспитания. Поэтому психолог выполняет такую уравнивающую функцию, как капеллан в армии. У нас — по-другому: мы все, можно сказать, от одной ветки, и православие для нас — органическая религия, поэтому обращение к священнику у нас естественно. И священнику приходится быть и психологом, и психиатром иной раз, а иногда жилеткой, в которую можно пореветь. Большинство духовников справляются с такой функцией.
— Людей в жизни настигают разные беды… Что это — крест, испытание, наказание, судьба, как по-вашему?
— Такого понятия как судьба в христианстве не существует. Есть промысел Божий. Это некий путь, который тебе предлагается пройти, чтобы спасти свою душу. Крест — это некий комплекс испытаний, через который должна пройти душа. Вот у вас на руке золотое кольцо. А знаете, в каком грязном камне это золото находилось, прежде чем стало таким блестящим? Камень для начала нужно выковырять откуда-нибудь, раздробить, отправить в плавильную печь, весь шлак очистить. И с человеческой душой так. У Бога большая палитра разных приемов: кому-то нужно перенести потери, но, как правило, это бывает, когда до человека другим способом не достучаться. А психолог по большей части подыгрывает эгоистическому началу, тогда как в христианстве больше внимания уделяют ближнему.
— Сегодня очень разное отношение к церкви. Много вопросов вызывает материальная составляющая РПЦ, особенно плата за венчание, крещение. Почему церковь устанавливает расценки на важнейшие христианские таинства?
— В 90-е, когда народ рванул в церкви, рекой полились и деньги. Когда неслыханные суммы стали поступать на церковные счета, нужно было решить, куда их направить. Путей было всего два: либо просвещать людей, либо строить. Храмы-то все были разбиты, превращены в склады, фрески падают — того и гляди, потеряем целый пласт нашей культуры. Было решено, что второй путь важнее. Начали строить новые храмы, восстанавливать старые, но в ущерб, может быть, просвещению. Все священники, и я в том числе, превратились в строителей, прорабов, реставраторов… Получается, храмов-то мы понастроили, а в них никого нет. Сейчас этот маятник качается в обратную сторону: открываются воскресные школы, в Вологде открылась духовная семинария, работают православные университеты, новая специальность в светских вузах появилась — «теология». Но на все это нужны средства, церковь не производит материальных благ, она всегда жила на пожертвования. Апостол Павел говорит: «Если мы вам даем духовное, не удивляйтесь, что мы обратно просим телесное». Всякий человек, который трудится на духовной ниве, он духом-то святым не может питаться.
— А все ли пожертвования доходят до адреса?
— Когда крутятся большие средства, могут быть и злоупотребления. Но по большей части все пожертвования приходят в конце концов куда надо. Всем в церкви «рулит» Бог, и если он видит злоупотребления, то терпит, а потом крепко бьет. Можно скрыться от налоговой, от полиции, а от Бога никуда не сбежишь, будешь отвечать по полной. Еще всем зазорно, что у священников золотые сосуды, одеяние… Но все, что в церкви, оно священнику не принадлежит, оно принадлежит общине, миру.
— В школах ввели отдельный модуль по православной культуре. Обязательно ли религиозное образование в светских школах? Ведь вера — это внутренняя потребность человека, а навязывание извне иногда может вызвать наоборот отторжение.
— Здесь есть опасения с обеих сторон. Одни родители боятся, что на таких курсах вырастят монахов с религиозными заморочками, а другие говорят, что преподавать должны настоящие верующие, священники. Такие занятия — это возможность ознакомить детей с тем миром, где они живут. Почему кресты на куполах, а почему купола, а зачем столько церквей, а почему священник с бородой? Это самые простые вопросы, и на них нужно знать ответы. Раньше все это можно было узнать вне школы, пока было поколение, которые помнили живую церковь до революции. А сейчас 80-летние — это бывшие пионеры, комсомольцы. Им по самые корни отрезали всякие религиозные чувства. Чему они могут научить?
— Под Череповцом хотят восстановить Леушинский монастырь. В современном мире монастыри актуальны?
— Монастыри востребованы и нужны. Это я говорю как человек, который много лет посвятил служению в монастыре. И сегодня есть верующие, которым мало молиться, поститься, в церкви бывать. Им хочется христианства с избытком. И монастырь предоставляет такую возможность — посвятить Богу не часть жизни, а жизнь полностью, без остатка. Приведу еще маленький пример. Пришла как-то к нам в монастырь 20-летняя девушка, ее молодого человека посадили в тюрьму на четыре года, и она попросилась на это время в монастырь. Самую грязную работу хватала, о чем-то только еще подумаешь, а она уже сделает. И случилось так, что мальчик хорошо себя вел, и его через два года выпустили. И все, девушка уже с чемоданчиком на пороге: «До свидания!». И где бы еще она пережила эти два года, если бы не было монастыря?
— Вы автор многочисленных работ по храмовой архитектуре, краеведению, фресковой живописи, вашему роману «Незавершенная литургия» исполнилось десять лет. Не было мыслей написать еще одну книгу?
— У меня готов второй роман, он мне тяжело давался, потому что после успеха первой книги уже появился свой читатель, который ждет продолжения истории. Но это совершенно другая история. Но второй роман должен быть не хуже первого. Он выйдет, когда я разрешу отдать его в издательство. А в этом и проблема: я его постоянно перечитываю, что-то меняю местами. Оказывается, у литераторов есть болезнь — синдром второго романа. Одну книгу может написать любой, а вот вторую — только писатель. Так что писателем я пока не стал.
Валентина Бушманова