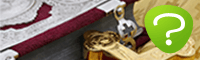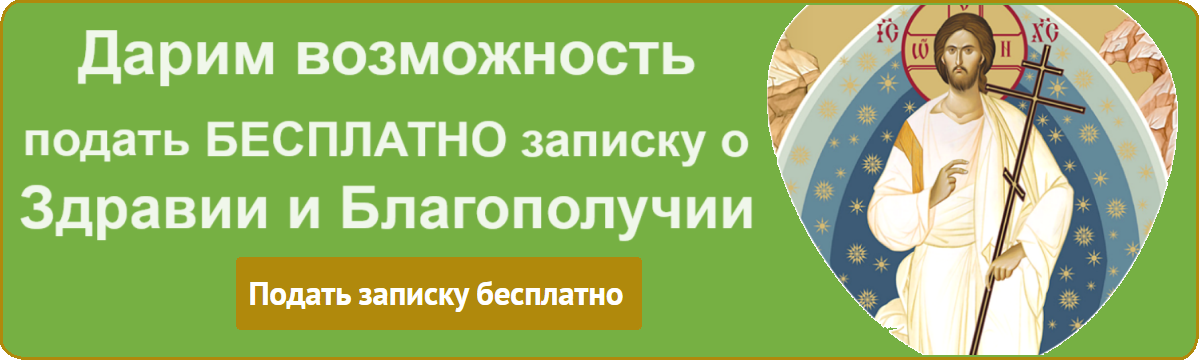От Нарьян-Мара до Шойны: миссионерская поездка по западу Ненецкого округа. Часть 1.
Пролог
На дворе 13 марта, раннее воскресное утро. Смотрю в окно из залитой заполярным солнцем епархиальной столовой. Вижу, что спит еще в свой выходной единственный город в огромном Не-нецком автономном округе, разросшийся почти до 25 тысяч жителей, город, о котором поется в песне: «Славный город Нарьян-Мар…» (в переводе с ненецкого языка Няръяна мард – Красный го-род). Тем не менее, православные по разным улочкам поверх потемневшего весеннего снега направ-ляются в Богоявленский кафедральный собор, в единственный православный собор городка. Смот-рю на купол деревянного собора и слышу редкие удары благовеста. Расстаемся мы с Нарьян-Маром, с Собором и прихожанами на 2 недели: по благословению Преосвященного Иакова, епископа Нарь-ян-Марского и Мезенского, сегодня я отправлюсь в тяжелую, но такую важную для епархии и для жителей региона поездку по западной части Ненецкого автономного округа, а конкретно – по его 14 населенным пунктам. Предстоит большая физическая, интеллектуальная и духовная работа, види-мые результаты которой призваны стать подлинно миссионерскими и катехизаторскими.
Допивая чай с плодами Масленицы, уже слышу шаги эконома и водителя епархии. Привет-ствуем друг друга и относим вещи в автомобиль. Как ни странно, вещей набралось много: и церков-ной утвари, и книг для отдаленный поселений жителей суровой тундры, и теплой одежды. Обора-чиваюсь на Собор, в котором д. Роман готовится к Литургии без меня, становится малость волни-тельно: не поволокут ли почти 2000 км в волокушах за снегоходом? доедем ли до Шойны – фактиче-ски до края земли? вернемся ли?.. Немиссионерские мысли, не о том наверняка думали равноапо-стольные Кирилл и Мефодий, отправляясь в Великую Моравию и Паннонию, не того боялся свт. Николай (Касаткин), отплывая к обнаженным саблям языческой Японии... Пришла пора перенимать опыт сильных духом предшественников, – заводи́, Денис Викторович!
Инициатором поездки были Совет и Администрация Заполярного района НАО и, конечно, лично Глава Совета А.Л. Михеев (кроме меня в ней участвовали 10 человек). Из полученных на подготовительной встрече с участниками поездки материалов по дороге узнаю предстоящий марш-рут, который до смерти испугал бы любую маму и жену православного миссионера: в намеченной рабочей поездке Глава совершает ежегодный отчет перед населением западной части Округа в сле-дующих населенных пунктах: п. Индига, п. Выучейский, д. Волонга, д. Белушье, с. Нижняя Пёша, д. Верхняя Пёша, д. Волоковая, д. Снопа, с. Ома, д. Вижас, с. Несь, д. Чижа, д. Кия и п. Шойна. 900 км в один конец. В этих же пунктах надлежит провести свою миссионерскую и катехизаторскую рабо-ту и мне, которого взяли как официального представителя Нарьян-Марской епархии. Участие пред-ставителя епархии в такой крупной поездке по западной части Заполярного района совершается впервые, и это всерьез добавляет ответственности.
Во всех населенных пунктах мною запланирована программа миссионерско-катехизаторской работы с элементами беседы и работы ризничего, включавшая несколько обязательных элементов. Пока за окном автомобиля по пути из Нарьян-Мара в пос. Искателей, откуда отправляется делега-ция, мелькают городские поселки Виладж, Факел и др., повторяю эти дела для пущего уяснения сто-ящих передо мной задач. Эти важные составляющие миссионерско-катехизаторской программы должны иметь место во всех 14 населенных пунктах (см. рапорт об этой поездке, опубликованный вместе с дневником).
Миссия должна реализоваться в нескольких плоскостях, но мой график зависит от графика движения и деятельности Совета и Администрации Заполярного района. Свой график они сообщи-ли мне заранее. Соответственно, мои личные встречи с народом, главным образом, будут иметь мест после Отчетов Главы перед населением. После официальной части Отчета мне 14 раз предоставят слово, пока артисты из числа делегации готовят себя и оборудование для юбилейного концерта в честь 10-летия Заполярного района. Сказать в этот промежуток, а также сделать в другое время предстоит многое, а именно то, что описано в моем рапорте (см. рапорт).
13 марта, воскресенье. Первые радости и первые проблемы. Путь в Индигу.
Итак, в первую очередь, нужно оговориться о том, кто же поехал на Запад НАО 13 марта 2016 г. по 14 весям, о тех талантливых людях, которых взяли меня с собой несмотря на мою неполитиче-скую и вообще несветскую миссию. Конечно, это сам Глава Совета Заполярного района (ЗР) А.Л. Михеев, это заместитель Главы Администрации ЗР Надежда Леонидовна Михайлова, главный спе-циалист отдела обеспечения деятельности Совета и главы ЗР Денис Николаевич Сергеев, замести-тель генерального директора МП ЗР «Севержилкомсервис» Василий Михайлович Витязев, Влади-мир Зеленых, специалист по делопроизводству и, одновременно, певица и организатор концертов в Совета Заполярного района Хозяинова Ольга Альбертовна, ведущий специалист отдела обеспечения деятельности Совета и главы ЗР и, вместе с тем, автор текста гимна Ненецкого автономного округа, поэтесса, литератор, автор-исполнитель Инга Александровна Артеева, артист клуба «Созвездие», поэт и композитор, автор-исполнитель Павел Леонидович Поздеев, публикующийся под псевдони-мом Pavel Leoni, а также бессменные водители двух Трэколов Алексей Муканович Дошаков, Дмит-рий Аншуков и Руслан Романов.
Знакомство у машин проходит быстро и немногословно. Денис Викторович делает памятное фото. И вот мы уже в пути. Весь воскресный день мы проводим в дороге с чаем, сухарями и яблока-ми. Стараюсь соблюдать пост, надеясь обрести постные блюда в предстоящих столовых и кафе. Пи-таться и в целом ехать проще сотрудникам, сидящим в том Трэколе, которым управлял Алексей Му-канович. Хитрость их машины в том, что между двух длинных сидений, расположенных вдоль бор-тов «судна», прикреплен к полу комфортный стол. Он и держаться на крутых поворотах позволяет, и питаться за ним удобнее. А в другом Трэколе, которым бодро управляли 2 водителя – до п. Индига Дмитрий, а после Руслан, – и где едем мы с Василием Михайловичем Витязевым, ситуация сложнее. Почти половина свободного пространства между стоящими вдоль бортов машины сиденьями зало-жено походными сумками участников поездки, лежит там и экран для проектора, несколько коро-бок, к потолку привешены два концертных костюма, а на обратном пути на полу появляется еще и замотанная в мешковину бензопила. Весь этот багаж периодически сдвигается вперед при торможе-нии (при старте почему-то назад не отодвигается), почему и приходится нам с артистом Павлом время от времени задвигать багаж обратно, перекладывая более компактно сумки и коробки, а потом еще и заботливо находя место для пилы. Так, в бережном отношении к обилию вещей, проходит вся поездка. А как иначе? Нужны и теплые вещи, и множество продуктов, и резиновые сапоги. От осо-знания сложной логистики нашего путешествия горя и ропота у меня нет, поскольку друзья в городе вовсе обещали мне холодную смерть в этом путешествии: «Ты вообще знаешь, как тебя повезут?! Посадят в волокуши (деревянные открытые сани, похожие на большой ящик без крышки) и поволо-кут 2000 км! Одевайся теплее и бери темные очки, а то ослепнешь от солнца и снега…». И вот смот-рю я за окно теплой машины сперва на сияющий снег, потом на лютую метель, начинающуюся по дороге в Волонгу, и представляю себя в волокушах, пронзенного четырьмя ветрами, ослепленного солнцем да обожженного по щекам морозом и, конечно же, радуюсь в вездеходе горячему чаю и теплому общению с людьми, которые быстро становятся коллегами и друзьями. А сумки, памятуя волокуши, укладываю с улыбкой снова и снова – аккуратно и прилежно…
По дороге, уложенной неукатаным рыхлым снегом, начинаются первые испытания. Один из Треколов, маскирующихся в тундровой степи, как песцы, белоснежной окраской, увязает в снегу. Тррр-бррр, пониженная передача, вперёд-назад… Дмитрий начинает сердиться на непослушную машину, покидая её и доставая с крыши совковую лопату. Другая машина терпеливо ждет впереди, боясь брать нас на буксир: еще не хватало, чтобы встали оба. Вместе едем, вместе и вытаскивать вез-деход! Вылезая на холод, вместе с другими, молюсь про себя и застёгиваю повыше куртку. Вокруг, смотрю, ровные места и ясная погода, слегка покачивается багровая ера, вдалеке, посреди гладкой тундры, резво взлетают несколько куропаток. Начинаем работать. Женщинам, участвующим в по-ездке, и без того тяжело, поэтому они морально поддерживают трудящихся. Видим - плотно сели. По-очереди с Василием Михайловичем и Павлом «отка́пываемся». Когда-то лежавшая на машине бесхозной лопата теперь – на вес золота! Однако, продолжающий буксовать Трэкол дает понять, что «откапа́ться» здесь можно только к утру... Налегаем впятером, толкаем несколькими импульсивны-ми рывками и через минуту машина спасена. Первая победа, первые поздравления друг другу! Поо-даль, среди одиноких голых кустов еры взлетает очередная любопытная куропатка. Смотрела на труды человека? А чего же не помогла?!.
Снежные барханы, уже весенние лучи заполярного солнца, редкие кустарники, низкорослые, искривленные климатом еще более редкие стволы берёз… Меня не перестают посещать мысли о людях, оказавшихся посреди тундры в разрозненных деревнях, поселках и селах сменяется чередой общения. И в этом знакомстве Василий Михайлович вдруг объявляет, что они будут звать меня доб-рым русским словом «батюшка». Приятно, что и говорить… Кстати, свое обещание Василий Ми-хайлович сдержал, а остальным теплое слово, которого я, конечно же, недостоин, тоже пришлось по нраву. Так меня и звали не только до конца поездки, но и после неё по привычке зовут.
И вот, после оставшихся позади приблизительно 115 км, мы оказываемся в с. Коткино. Но ненадолго: коллеги заходят с дружеским визитом домой к прежнему Главе села Поз-дееву Олегу Михайловичу, захожу и я. Но визит, видимо, не только дружеский, но и практический: Глава дарит нам мешок дров и еще что-то. К тому же, я прошу бывшего Главу передать небольшой дар семье Семяшкиных, у которых мы со священником Артемием Тодчуком жили в предыдущую миссионерскую поездку (статья о миссионерской поездку в с. Коткино была опубликована на сайте Нарьян-Марской епархии здесь.
В п. Индига мы, утомленные бесконечным раскачиванием машины и прочими тяготами пу-ти, оказываемся лишь к вечеру. Хрустит под ногами морозный крахмал северного снега, а из сель-ских окон сквозь цветастые занавеси проглядывает желтый свет. Закатилось недолгое солнце, оста-вив после себя темно-вишнёвую полосу, и мы не спеша заносим необходимый багаж и провизию в низенькую гостиницу. Читателю, наверное, непривычно слышать, но пройденные 167 км заняли у нас около 12 часов. Такова скорость перемещения по тундре зимой. Теперь нужно разместиться в местной опочивальне, подготовленную Главой поселка, дружно подкрепиться и… продолжать тру-ды до поздней ночи. Здесь, все-таки, часовня готовится к освящению.
Нас встречает Глава поселения Давыдов Олег Иванович, сразу вызывающий доверие своей добротой, простотой в общении и мудростью в суждениях, что внутренне располагает к этому чело-веку. И уже после ужина в часовне в честь Иверской иконы Богородицы разворачивается бурная де-ятельность, необходимая в контексте подготовки часовни к освящению. Благо – часовня стоит рядом с гостиницей, – не придется носить утварь через всё село.
Не теряя времени, с Главой поселка идем в духовную цитадель поселка. Совместными усили-ями проводим оценку состояния часовни (отличное!), распаковываем, собираем надлежащим обра-зом церковную утварь, планируем размещение по стенам икон. Вся утварь и святыни были присла-ны накануне из епархии в связи с приближающемся событием освящения, и нам остается её собрать и поставить на надлежащие места. Среди предметов церковного обихода вижу крупные иконы с церковного завода «Софрино», два подсвечника, аналой, паникадило, семисвечник, 4 лампады на стены вместе с кронштейнами и 11 алых чашечек как составляющие семисвечника и лампад. Вдоба-вок к этому из епархии доставили средства для чистки утвари, лампадное масло и некоторые другие необходимые вещи и предметы обихода. Распаковав утварь, мы с Главой дружно убираем мусор и наводим общий порядок. По ходу работы Олег Иванович делится сведениями о том, что было сде-лано для благоустройства часовенки за последние месяцы. Говорит, как долго они с рабочей груп-пой из Архангельска боролись с вредным грибком, поражавшим стены, как очищалась часовня от плесени при помощи современных технологий, показывает освещение, проводку, утепленный по-толок и вставленные стекла. Провожу рукой по карминового цветагладкой поверхности брусчатых пролаченных стен, – красота!
Постепенно накапливаются несколько вопросов, которые невозможно решить без правящего архиерея. Звоню Владыке, советуюсь о дальнейших трудах в индижской часовенке. А пока звоню – замечаю, как Глава начинает мести усыпанные стружкой и опилками полы. И пробегает мысль: есть в этом человеке и хозяйская жилка, и любовь к Богу, которая перекрывает земные условности и поз-воляет ему вести себя перед Богом как обычный человек. А затем с Главой и с подошедшим Валери-ем Леонидовичем Овчинниковым-Лудковым, активно и при этом так же безвозмездно ведущим здесь работы, согласовываем план дальнейшего её благоустройства. Следует сказать, что на тот мо-мент я еще не знаю, сколько писем и звонков нас с Валерием свяжет впереди, по окончании поезд-ки, не подозреваю, что для завершения подготовки часовни к освящению я в будущем должен буду вечерами осваивать ребусы проектов, что нужно будет научиться рисовать схемы, объясняющие по-ложение утвари и икон в часовне, а Валерию и его друзьям придется доделывать массу работ до са-мой середины мая.
Работы заканчиваются за полночь. Спит село, погасившее желтые окошки заснеженных пур-гой домов. Прощаемся до завтра, и метров 150 я устало толкаю по укатанной снежной дороге две коробки с духовной литературой, предназначенной для индижской библиотеки. Но это – уже завтра. А сегодня – «В руце Твои, Господи, Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой…»
14 марта, понедельник. П. Индига и п. Выучейский
После завтрака и рядовых дел в 13 ч. выдвигаемся прежним составом в п. Выучейский. Входит он в состав Тиманского сельсовета, центром которого стала Индига.
Как и Индига, Выучейский находится на берегу речки Индига, кишащей вкусной северной рыбой – семгой, голецом, хариусом, сигом и особенно корюшкой. В некоторых реках НАО, самая крупная из которых, конечно, Печора, водится более крупная рыба – Нельма и щука. Идя по насе-ленному пункту, здесь часто можно услышать «Сигов наловил?», «Продай корюхи, вон сколько натаскал!..». К слову сказать, в Ненецком Округе люди не мыслят себе жизни без рыбы, вот и стано-вятся животноводство и рыбодо́быча жизненно важными промыслами как в Индиге, так и во всем Ненецком «царстве». Славно, что на русском Севере много рыбных блюд: с ней и прожить, и пост держать легче! В зимние же месяцы некоторые населенные пункты и вовсе одной рыбной пищей питаются: своего животноводства нет, а до оленеводов с их огромными стадами северных оленей просто не добраться.
Как отмечается в различной литературе, вдоль р. Индига располагается беспросветная бугри-стая тундра, в которой в теплое время года произрастают в изобилии грибы и известная северная ягода наряду с клюквой и брусникой – морошка. Русло реки сильно меандрирует – часто меняет свои извилистые формы, и это видно даже зимой. Это характерно для многих северных рек и при-токов. К счастью, мышление местного жителя не хитро-извилистое, а понятное и прямое: что сна-ружи, то и внутри.
Поселок Выучейский расположен немногим вверх по реке от Индиги и потому чуточку южнее. Он был основан в 1933 г. и назван в честь известного педагога и общественного деятеля Не-нецкого округа И.П. Выучейского, много сделавшего для развития педагогики и научной мысли своего края. Из современных достопримечательностей и достоинств поселка обычно называют его оленеводческий кооператив, на котором во многом держится это поселение.
По дороге в Выучейский наш Трэкол пополняется еще одним участником. Это молодой чело-век по имени Павел Леонидович Поздеев. Поэт, композитор и исполнитель, Павел участвует в по-ездке именно по концертной части, хотя и в хозяйственных дела он имеет сноровку и знания. Дело в том, что после слов Главы и моего обращения к жителям во всех местах нашего пребывания запла-нированы юбилейные концерты в честь 10-летия Заполярного района. На юбилейных концертах Павел вместе с некоторыми другими талантами Совета и Администрации ЗР и призван выступать. До конца поездки мы будем часто общаться и трудиться вместе с общительным и всесторонне разви-тым певцом.
В Выучейском нас встречает директор местного Дома культуры Татьяна Николаевна Канева (подчас простого вида Дома культуры Глава ЗР в своих Отчетах называет «Дворцами культуры»). Одноэтажное здание с несколькими кабинетами, библиотекой, бильярдным столом и цветами на ок-нах вместило и нас, и слушателей Отчета, которых становится все больше. Среди аудитории сидят вместе и ненцы, и русские.
Видимо, оттого, что священнослужитель в большинстве весей НАО – редкий гость, директор ко мне, заходящему к ней в кабинет для обсуждения ряда вопросов, отнеслась, на мой взгляд, слиш-ком серьезно и даже настороженно. В самом начале нашего знакомства, представившись, передаю Татьяне Николаевне в качестве благословения журналы Архангельской митрополии от правящего архиерея. По моей просьбе она показывает мне место в поселке, где в будущем можно было бы по-строить часовню, а также принимает от епархии электронную коллекцию фильмов на духовно-нравственные темы селян и десять книг полезной духовной литературы. Прощаясь с Татьяной Ни-колаевной «до скорой встречи», я даже не думаю о том, что спустя три недели мы встретимся на тропинках в пос. Искателей возле Администрации ЗР, куда она приедет в командировку. Её насто-роженность спала только здесь, при нашей повторной встрече, где мы нечаянно увиделись с женщи-ной и обменялись приветствиями и благопожеланиями. Вроде бы всё обычно, но как приятно вновь встретить знакомого человека, когда-то сделавшего тебе добро!
В Выучейском мы работаем всего 3, 5 часа, после чего, выполнив каждый свою миссию, воз-вращаемся назад в Индигу.
В Индиге вижу гораздо более крупный, полный слушателями зал. После своего обращения к жителям (см. рапорт), именно в Индиге начинается серьезное общение с местными жителями после концерта. Под звуки расходящегося по домам народа, шутки и детский смех, мы беседуем с группой людей, которые довольно встали вокруг меня. Кто-то записывается на крещение, кто-то обращается с наболевшими в сельских тяготах вопросами, а кто-то просит молитвы за себя и своих близких. По одному из вопросов даже приходится звонить правящему архиерею. Нужно сказать, что такой фор-мат общения с народом – монолог перед концертом и двусторонние встречи после него – сопровож-дал всю мою миссию. И лишь в Неси… а что было в Неси, Вы узнаете чуть позже.
Во все часовни во время обращения к жителям, а также в военную часть п. Шойна были пе-реданы в дар от епархии новые иконы. Емкости с крещенской водой были оставлены в часовнях и в несском храме. Как мы довезли св. воду? Признаюсь: я вёз с собой лишь 1, 5 литра крещенской воды. А как из неё, по благословению Владыки, получились несколько больших емкостей для всех духов-ных центров, нами посещенных, читатель, наверное, уже догадался.
В Индиге я начал понимать, что многие в зале удивлены появлением на сцене человека в ря-се. По взглядам людей можно было понять, для кого встреча с клириком когда-то уже имела место, а кто видит его впервые. Это не могло не принести некоторого сожаления, о том, что не только нет священника в большинстве населенных пунктах Округа, но и собственного религиозного опыта у некоторых людей. Между первым и вторым, безусловно, есть прямая взаимосвязь, и взаимосвязь та плачевная. В целом зал во время моего монолога наполняла гробовая тишина. Замирали все – от ма-ла до велика. Было в этом и уважение, и благоговение, и некая неясность: как обратиться? можно ли спросить? не отругает нас этот молодой «батюшка» ли за вопросы и грехи?.. Вот и общаться с людь-ми на Севере стараешься проще и недвусмысленно, чтобы не усугубить волнение и неясность перед твоим обликом. И где же здесь академическая наука? – может спросить коллега-академист. Стоило ли заканчивать Академию, писать и защищать научную работу, чтобы потом сводить сложившиеся академические язык и мышление к простонародному? Отвечу прозаично, что научные труды можно пересказать любым языком для любого человека, любой жанр гибкий и поддается пересказу, выгод-ному в той или иной ситуации. К тому же, бесценный опыт занятия миссионерской деятельностью и обучения в духовных школах помог мне научиться понимать потребности людей, помог приобрести качество переключаемости, которое позволяет менять стиль своего изложения того или иного пред-мета для разных людей.
Чтобы произвести еще большее миссионерское впечатление, мы с коллегами решили выпу-стить меня на сцену с песней группы «Любэ» под названием «Конь». Когда-то в комнатах семинар-ского общежития эта песня звучала часто, – любит ее и семинарист, и православный народ. Испол-нение этого хита дуэтом вместе с А.Л. Михеевым стало творческим приложением к миссионерской работе.
15 марта, вторник. Деревни Волонга и Белушье. Неприкрытая сложность тундровой жизни.
По дороге в Волонгу Павел затягивает одну за другой известные песни, – не до скуки! Но не всё коту – масленица. Сложности встречают нас уже по дороге в первую из двух деревень. Правее снежных виражей нашей «дороги» я по ходу движения замечаю необычный снежный холм, хотя мы быстро его минуем. Его необычность заключается в том, что он, как дикобраз, покрыт тонкими дре-весными веточками березы, ивовых. К каждой из этих веток привязаны по несколько ленточек раз-ного цвета. Как девушка-родноверка на языческом празднике стоит сугроб, красуется цветастым убранством среди белоснежной тундры. Сверху холм просто усыпан железной денежной мелочью – не сосчитать! Для подтверждения своих мыслей спрашиваю у коллег об оставшемся позади феноме-на. Слышу в ответ, что здесь останавливаются почти все, чтобы пожертвовать деньги «ненецким ду-хам», чтобы те якобы пропустили путешественника по тяжелым тундровым снегам. Дескать, а то не пропустят. После этого во мне закипает кровь, и мысли наполняют планы беспощадной расправы над языческим жертвенником…
…Вот, я уже представляю себе, как на обратном пути иду на хитрость, попросив остановить машину возле холма. Выхожу, прочитываю молитву Честному Кресту и архангелу Михаилу, побе-дившему сатану-Денницу, и начинаю безжалостно выдергивать ветки с лентами, ломая их в щепки и раскидывая их вокруг. Потом беру лопату и сравниваю с землей сам холм. Затем представляю себе иной сценарий: с заранее увезенной из дизельной электростанции одного из сел бутылкой горючего я выпрыгиваю из салона Трэкола, с молитвой окропляю капище дизелем и предаю все это зло ог-ню… Вспоминаю жития вмч. Георгия, свт. Николая, сщмч. Феодора Киринейского, которые бес-страшно разрушали языческие кипища, жертвенники, храмы. Были же прецеденты! Однако мысли о толерантности XXI века и о возможных последствиях такого решительного поступка заставляют меня при первом появлении мобильной и интернет-связи в Нижней Пёше написать письмо вл. Иа-кову с просьбой благословить или остановить мою задумку расправиться с кумирней. Расправиться, чтобы она не вводила в смертный грех идолопоклонства путешественников. В письме я высказал и сомнения в необходимости такого деяния: меня в подряснике видели во всех окрестных местах, и если кто-то не досчитается жертвенника, обвинения несомненно падут на православного диакона. Реакция ревностных последователей ненецких культов может быть самой разной: от заявления в прокуратуру до вымещения зла на православных святынях округа. А виноватым себя чувствовать буду, естественно, я. И, возможно, буду чувствовать уже с судимостью. Такие перспективы меня во-все не радуют… На мои противоречивые мысли архиерей ответил благословением не разрушать холм, а поговорить о нем с местными жителями окрестных деревень, объяснить «архитекторам» жертвенника неправоту языческих взглядов, чтобы он был уничтожен его же создателями.
Население этих деревень не то чтобы невелико, оно критически мало: в Волонге официально проживает 40, а фактически 20 человек, а в Белушье – 80 и 20 соответственно. Несколько деревян-ных изб в каждой из деревень, в одной из них – сгоревшая баня, в обоих отсутствие школы и, соот-ветственно, детей, которые учатся в центре сельсовета с пансионным проживанием, а молодежь уезжает в крупные города. Теперь я понимаю, что значит на картах Округа подпись под многими пунктами – «Нежил.». Так сложилось, что наступает такой момент в жизни деревни, когда в ней не остается никого. Заваливаются заборы, дома сгнивают или, будучи разбираемы, перекочевывают в ближайшие деревни в качестве сараев или бань, а колодец с желтой водой возле старого «журавеля» грустно зарастает тиной… Эта грустная действительность вновь устремляет к вечности, где нет по-жаров и неурожая, но вечное счастье рядом с Любящим Отцом Небесным.
«Дворцы» культуры в деревнях Волонга и Белушье еще более «массивные», почти «столич-ные»: деревенская деревянная изба с одной большой комнатой, в которой и народ сидит рядами, и Алексей Леонидович стоит на фоне огромного экрана с проецируемой презентацией с текстом отче-та, и вещи, перемежаясь с предметами быта, разложены по периметру, а из центра комнаты обдает всех добрым теплом русская печка, – как положено, с лежаком наверху.
Встречают нас посильными угощениями – чем богаты, тем и рады. Впоследствии оказывает-ся, что две хозяйки, которые ухаживают за гостями во время трапезы, это не кто иные, как глава му-ниципального образования Пешский сельсовет Галина Александровна Смирнова и ее заместитель Татьяна Владимировна Дрожжачих. С этими людьми мы объехали, каждый со своей миссией, кроме указанных деревень с. Нижняя Пёша и д. Волоковая.
По дороге в Белушье мы неведомым образом, уже при наступлении сумерек, сбились с пути. Первый Трэкол оторвался от нас, а какой-либо связи в тундре нет. Минут через 40 коллеги нашли друг друга. Когда я пытался узнать причину этого заблуждения, мне сказали, что виной тому вешки, а точнее – их отсутствие на этом участке дороги. И тут я вспомнил про одиночные или связанные по три веточки высотой чуть больше метра, которые мелькали за окном машины вдоль нашего пути. Теперь стало понятно значение и спасительная ориентировочная функция этих палочек-вешек, – не зря Глава призывает народ на отчетах повсеместно заниматься вешкованием.
Оказалось, что в этих деревнях священника не видели никогда. Не раздавался здесь литур-гийный возглас, не звучали песнопения молебна и панихиды. На мой вопрос о желающих принять крещение люди с недоумением смотрели на меня: может быть, хотели спросить, что значит «креще-ние», может быть, не считали нужным иметь к этому отношение вообще, может, они давно обижены на весь «большой» мир, который, как порой кажется в такой изоляции, забыл про них, отгородился от их проблем, предоставив деревушки самим себе. Люди здесь сами веруют по-своему, хоронят не столько мирским чином, сколько светским, без специальных молитв вообще. Стерты границы меж-ду духовным и мирским, а о рассуждениях о догматических различиях между «единосущный» и «подобносущный» речь и вовсе не идет. Сердце сжимается, глядя на жизнь этих по нраву добрых людей, лишенных в жизни всяких благ, привычных цивилизованному человеку и современному христианину. Хочется им помочь, но как?..
Вместе с двумя деревнями скорбит ныне и природа. Метет, завывает метель. Но здешние себя не жалеют, тверда, как гранит, воля живущих здесь тружеников, потому что никто из старшего по-коления не хочет бросать свои избы и покосившиеся сараи, никто не меняет волонжско-белушскую воду со вкусом железа на чистую городскую. И трагизм, и патриотизм этих людей заключается в те-зисе «Родились здесь – здесь и умрем!»…
На отчете, во время указанной выше программы, слышу, что не хотят люди иметь свою ча-совню, отказываются от потенциального строительства: «Не нужно, не теряйте время. Зачем она, нас не останется скоро. Кому надо – съездит в Пёшу». Скорбь…
16 марта, среда. Из Нижней Пёши на «край земли»
Мы заночевали в Пёше, и затем через поселения Ома и Несь направились в п. Шойна, нахо-дящийся на окраине Ойкумены (с греч. οἰκουμένη «заселённая»).
Как и раньше, рыхлая дорога приводит нас то к полосе леса с невысокими, искривленными климатом березками в 2 раза ниже, чем в средней полосе сраны, то к маленькой речушке, промерз-шей почти до дна и выдерживающей 4 тонны наших вездеходов. Весь день в пути, но хорошо, что обходится, с Божией помощью, без приключений. Мы перекусываем яблоками, баранками с чаем и периодически вступаем в диалог на ту или иную тему. Например, Василию Михайловичу стало ин-тересно, как я пришел к Православию и как дошел до идеи стать священником. С удовольствием де-люсь этими святыми алгоритмами моей жизни. Время от времени Павел поет нам то чужое, то своё творчество. А когда ехать становится совсем тяжело, мы останавливаемся перекусить более основа-тельно. К вечеру нашу машину поджидает огромная лужа, прикрытая сверху белой пеленой тонкого льда и потому незаметная. Вот опять мы «по уши», но уже в воде. И теперь никто даже не тратит время на лопату: дружно залезаем по колено в лужу – кто в резиновых сапогах, а кто и в ботинках – и дружно толкаем. А когда вездеход спасен, прыгаем по салонам, включаем печки и начинаем су-шиться вместе с принятием горячего чая. Вскоре видим, что по дороге в Пёшу, кроме нас, застряли еще несколько машин по-проще. Из чувства солидарности наши водители, как на рыбалке, вытаски-вают из снежного океана то одного, то другого. А если бы не проехал Трэкол? Что сделает застряв-ший по самое днище на тундровой дороге при отсутствии мобильной связи? А ведь Арктика оши-бок не прощает… (продолжение следует)