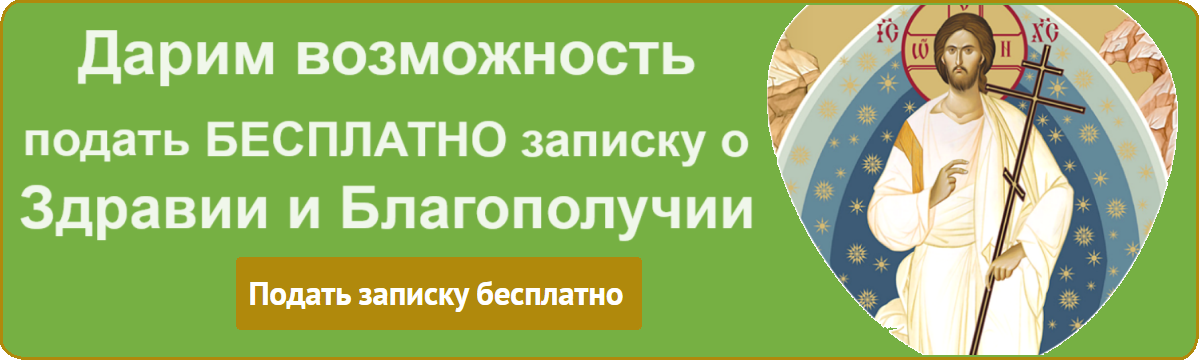- Лента
- |
- Участники
- |
- Фото 93
- |
- Видео 15
- |
- Мероприятия 0
В.П.Визгин, "Николай Бердяев и Габриэль Марсель: к феномену встречи".
В 2009 году исполнилось 135 лет со дня рождения Николая Александровича Бердяева и 120 лет со дня рождения Габриэля Марселя. Эту небольшую работу, продолжающую наши исследования связей русской философской мысли с французской, я хочу посвятить двум мыслителям, продуктивное взаимное общение которых показывает, что тезис о маргинальности русской философии, о ее «второсортности» по отношению к западной является несостоятельным, хотя и очень распространенным.[1]. Немецкие профессора философии в течение веков убеждены были, что «миссия немецкого народа - освещать всем другим народам путь в философию» [Гуссерль 2004, 166]. Убеждены в этом они и сейчас. Мало того - свою веру в философский мессианизм немцев им удалось внушить многим не-немцам, как французам, так и, особенно, русским - более уязвимым по части комплекса своей философской неполноценности. Опытный в философском деле Н.Н. Страхов поучает молодого Василия Розанова, доморощенно, не зная немецкого идеализма, взрастившего свой труд «О понимании»: «Первый мой совет Вам: учитесь по-немецки... Как хотите, а нельзя двигаться свободно в области мысли, не зная по-немецки» [Розанов, 2001, 11]. Он повторяет это наставление в разных вариациях, выражая устойчивое общепринятое мнение образованных русских людей не только XIX века.
Прав Страхов или ошибается? Ни то, ни другое. Классический немецкий идеализм - бесспорно, великое явление в истории европейской мысли. И немецкий язык, безусловно, следует изучать на философских факультетах. Но видеть бесконечноликое поле философской мысли в монохроматической германофильской тональности было бы, на мой взгляд, ошибкой, прегрешением против реальной истории, нам мало еще ведомой. Многоликость и полихроматизм философии, скажем так, фрактальны, вездесущи, сущностным образом характеризуя ее: разнообразно здесь все, не только «учения», «теории», «системы», «понятия», но и сами базовые «подпочвенные» слои мысли и самой мыслимости, мотивы и способы мыслить. Немцы великолепно развили одно важное направление - теоретико-систематическую, «чистую» мысль. Систематизм, строгость метода, внимание к логике обоснования, абстрактное диалектическое конструирование понятийных содержаний, классифицирующее упорядочивание целого свода знаний и т.п. - все это взросло на почве немецкого университета, имеет кафедрально-дисциплинарный подтекст. Вспомним профессорско-философские речи о «спорах между факультетами», о миссии немецкого университета и т. п. и т. д. Читая письма известных немецких философов, мы видим, что все волнующие их проблемы сводятся к трудностям теории и методологии, к стратегии обоснования абсолютно достоверных беспредпосылочных суждений, необходимых и всеобще значимых. Увы, но с экзистенциальной и художественно углубленной мотивацией их философии дело у них «швах». Ну, разве что проскользнет в их эпистолах обида на соседа-профессора, что престижная кафедра им у автора письма, претендента, как он считает, № 1, перехвачена... Один только Ницше решительно порвал с профессорством и ушел в швейцарские Альпы, в экзистенциально-художественно тонированный философский поиск с его культом «свободного духом» и стал петь дифирамбы не немцу Вагнеру, а французу Бизе. Певец Заратустры потянулся к латинскому гуманизму, к Монтеню, к французским моралистам и к... русской литературе, на могучем стволе которой не слишком пышной ветвью, правда, возросла и русская философия. Тон, дух, аура философствования в латинстве совсем другая, чем в немецкоязычном мире. В отличие от нравов немецкой профессуры здесь уже не принято гордиться тем, что мыслитель сумел заставить себя провести в чисто абстрактной работе мысли, нет, не часы, а целые годы. Здесь всерьез воспринимается тезис Гете о врожденной «серости» теории и теоретизирования in abstracto. Именно на почве этой установки русская философская мысль сошлась с французской, высвободившейся от очарованности немецким идеализмом и общеевропейским позитивизмом. Это схождение, или резонанс мышления, мы и хотим продемонстрировать на примере встречи Бердяева и Марселя, дополняя уже нами ранее сказанное [Визгин 2008, 488 - 670].
Бывают (и чаще всего) встречи без встречи - люди входят во внешний контакт предполагаемой взаимной полезности без внутреннего резонанса. А бывает, что подобной встречи в физическом пространстве как раз и нет, а вот духовный резонанс имеет место. Если первый вид встреч необходим для функционирования цивилизации, то второй род встреч питает культуру. Звучания подобных резонансов наполняют ее новыми голосами, которые прорезываются от этой музыки духовных сфер. Такая ситуация означает наличие в истории особого измерения, с другими временем и пространством, чем время и пространство внешней социо-политической деятельности. Волны внутреннего узнавания движутся в особом пространстве-времени духовной культуры.
Культура прирастает встречами. Особенно ярко это обнаруживается в истории экзистенциальной мысли. Вспомним, например, встречу Ницше с книгой Шопенгауэра (а, тем самым, и с самим философом «воли» и «пессимизма слабости»), затем его встречу с Рихардом Вагнером. Если феномен встречи - «квантообразен», то другая важная составляющая творческого движения мысли - социо-культурная атмосфера, - напротив, континуальна. Ошибочно, на наш взгляд, считать, что философию можно свести к одним лишь ходам отвлеченной мысли, выражаемым чисто понятийными построениями, якобы независимыми от такой атмосферы, от сети личностных отношений, от того, что мы называем встречами и резонансами. Покажем, в какой же атмосфере, в какой сети личностных связей действовали в Париже (и в его окрестностях) Бердяев и Марсель в конце 20-х и в начале 30-х гг. ХХ в., когда произошла их встреча и Бердяев лично и своим творчеством, безусловно стал оказывать заметное воздействие на экзистенционально-персоналистическую мысль Франции, в том числе и на Марселя.
На склоне жизни Габриэль Марсель диктует свои мемуары, вспоминая жизнь культурной элиты Франции 20-30 гг.: «В эту осень 1970 года, - говорит он, - с какой же неотвязной грустью я вспоминаю гостеприимные дома набережной Орлож, улицы Бюде или улицы де Резервуар, где тогда было сосредоточено наиболее духовно ценное из того, что в те годы имелось в Париже - и я осмелюсь сказать, даже в Европе в целом, - самое проницательное, самое чуткое, самое открытое и подвижное, самое отзывчивое. Может быть, считать все это исчезнувшим без какой-либо замены - иллюзия, нередко разоблачаемая? Но нет, по правде говоря, я не думаю, что это иллюзия... В то же самое время в "Открытом письме" Дени Ружмону, пытавшемуся опровергнуть пессимизм Поля Валерии, я написал: "Европейская цивилизация умерла 1-го августа 1914 года". Этот вердикт я никогда больше не высказывал, более того, я даже никогда вот так прямо и не думал, однако, именно эти слова вдруг снова неожиданно всплыли в моем сознании со всей их трагической очевидностью. Вспоминая расцвет нашей литературы в период между двумя войнами, сегодня, осенью 1970 года, я вдруг вижу, что это было явление, напоминающее странное свечение, в котором иногда тонет пейзаж после того, как солнце уже закатилось» [Марсель 1971, 135][2].
На улице Бюде жил тогда Шарль Дю Бос (1882-1939), а на улице де Резервуар, в Версале, что недалеко от Парижа, он читал свои лекции о Гете. Бесподобный лектор, удивительный собеседник, равных которому, кроме одного Вячеслава Иванова, Бердяев за всю свою жизнь не встречал, Дю Бос вынужден был ограничить свою лекторскую деятельность светскими салонами. Возможно, именно в эти годы мы наблюдаем последний всплеск высокой салонной культуры, которая своей живостью, спонтанностью, разнообразием голосов, а порой просто масштабом участвовавших в ней личностей далеко превосходила официальную университетскую культуру. «У него дома, на улице Бюде, - говорит Марсель, - я познакомился с такими выдающимися личностями, как Макс Шелер, Яков Вассерман, Райнер Мария Рильке, которых ни в каком другом месте я не мог бы встретить» [Там же, 132]. В литературных кружках и философских салонах порой возникает самая благодатная атмосфера для культурного взлета. Мы это знаем по истории России. Нечто подобное имело место и в Париже в 20 - 30 гг. XX в. Почему же деятельность Шарля Дю Боса ограничилась по преимуществу салонами, почему такой духовно чуткий человек, с такой чувствительностью и вкусом к культуре, с такими уникальными аналитическими способностями не стал известным влиятельным профессором? Дело в том, поясняет Марсель, что педагогическая машина Франции чрезмерно забюрократизирована, а у Дю Боса не было никаких иных дипломов, кроме свидетельства об окончании университета. Он даже не имел звания агреже, дающего право на университетское преподавание.
Шарль Дю Бос - один из самых ярких представителей эпохи «странного свечения», наступившей после заката европейской цивилизации. Кстати, сам образ заката отсылает к философско-историческому бестселлеру начала 20-х гг. Я имею в виду, конечно, «Закат Европы» Освальда Шпенглера. Крах европейского гуманизма Марсель однозначно фиксирует августом 1914 г. Но после окончания, как он говорит, Большой войны свечение закатившихся идеалов еще не вполне угасло. Это недолгое время и было временем «странного» присутствия света, источник которого уже ушел за горизонт. После Шарля Пеги, убитого немецкой пулей, после замечательных лекций и книг Анри Бергсона во Франции начинается движение интеллектуалов к новой метафизике, к обновленному спиритуализму и, в конце концов, к католицизму, внутри которого развивается течение католического модернизма. Эти процессы - mutatis mutandis - сопоставимы с почти синхронным пробуждением религиозного сознания у наиболее чуткой части русской интеллигенции. Поиски «нового религиозного сознания» по-своему проявились и во французской культурной жизни. И уже поэтому встреча Николая Бердяева с новыми католическими мыслителями Франции стала столь резонансной, а потому и столь плодотворной.
Дадим короткую справку об упомянутом нами Шарле Дю Босе, творчество которого, кстати, у нас совершенно неизвестно. Подобно Прусту и Марселю, Дю Бос происходил из кругов крупной парижской буржуазии. Поэтому он был вполне материально обеспечен, что позволило ему всецело отдаться свободному и глубокому изучению литературы, философии, искусства, религиозной жизни. Его мать была англичанкой - кстати, англоговорящими с детства были и Бергсон, и Жан Валь, и его друг Габриэль Марсель, - и поэтому он совершенно свободно владел английским языком. Знал он и немецкий язык, а также писал и читал по-русски, переводил русскую литературу, знал и другие европейские языки. Например, литературу, искусство и язык Италии он изучал в Италии. Еще в молодости он познакомился с книгами Бергсона, глубоко на него повлиявшими. Дю Бос учился в Оксфорде и Берлине, где основательно погрузился в немецкую философию, в феноменологию, прежде всего. Здесь он сблизился с Бернардом Гротуйзеном (1880-1946), учеником Дильтея, который после смерти учителя издавал его неизданные труды, а впоследствии жил в Париже. В начале 20-х гг. Дю Бос вместе с группой писателей организовал журнал «Новое французское обозрение» (NRF). В его редакции он подружился с Андре Жидом, Жаком Ривьером и другими звездами тогдашней французской литературы. Блестящую характеристику выдающихся писателей и философов Франции того времени, в том числе и Дю Боса, мы находим у Бердяева в его «Самопознании». «Дю Бос, - пишет Бердяев, - был очень оригинальный человек, не похожий на среднефранцузский тип. Он не был человеком нашего времени, он был человеком романтического века. У него был романтический культ дружбы. В нем была большая чистота и благородство, настоящий духовный аристократизм» [Бердяев 1990, 256 - 257]. Шарль Дю Бос был самым близким другом Марселя тех лет, его «лучших лет», как говорит об этом времени сам французский философ[3].
На упомянутой Марселем набережной Орлож жил другой замечательный писатель, деятель культуры и влиятельный человек в издательском мире Франции тех лет - Даниэль Алеви (1872-1962), имя которого встречается в переписке Бердяева с Марселем. Русский читатель знает этого писателя по его биографии Ницше, впервые изданной у нас еще в 1911 г. и затем переиздававшейся в недавние годы [Алеви 1992]. «Хотя с этим человеком, не слишком раскрывавшимся навстречу другому, - говорит Марсель, - у меня и не было близости, сопоставимой с настоящей дружбой, связывавшей меня с Шарлем Дю Босом, я всегда думал о нем с симпатией и благодарностью. В своей великолепной квартире на острове Ситэ он сумел создать атмосферу благожелательности и подлинного внимания. В кругу приглашаемых им людей он без всякой аффектации уверенно руководил беседами, умело их направляя и не задевая при этом спонтанности своих гостей. Даниэль Алеви помогал восходящим и еще мало известным талантам, таким, как Мориак, Монтерлан, Жироду или Мальро...» [Марсель 1971, 134 - 135 ].
В высший круг европейской литературы и философии тех лет входили на равных и русские имена - Николай Бердяев, Лев Шестов, Георгий Флоровский, если ограничиться только самыми известными. Человеком того же самого парижского «местовремяразвития», хотя и гораздо более молодого поколения, был и отец Александр Шмеман (1921-1982). Впоследствии он точно так же, как и Габриэль Марсель, остро осознавал, что 20-30 гг. были уникальной культурной эпохой, послезакатно просиявшей в европейской истории. Вот его запись в дневнике, сделанная в тех же самых 70-х гг., когда и Марсель диктовал свои мемуары: «Переписка Brémond - Blondel, третий том. Всего каких-нибудь сорок лет прошло с тех пор, а впечатление такое, что скрылась под водою целая Атлантида, целая цивилизация, поразительная по своей тонкости».[4] Больше всего отца Александра поражает внутренняя сила людей той эпохи свободно подчиняться тому, с чем они сам связывают высшие ценности, а также их талант быть остроумными и проницательными, оставаясь при этом благочестивыми и даже правоверными христианами, но без всякой фальши. Сейчас бы, говорит он, несогласные с Церковью стали бы «качать» свои «права», а вот, например, талантливый богослов и философ, католический модернист тех лет, книги которого Ватикан запрещал, отец Лабертоньер (1860-1932) - с ним, кстати, переписывался Бердяев - сам, добровольно, отказывается от писания своих неугодных римскому престолу сочинений... И чувствуется в словах о. Александра та же самая грусть, с которой отзывается об этом времени Марсель: эпоха «высокого послушания свободных людей», увы, ушла, сменившись эпохой «бунтующих рабов», пассионарных «качальщиков» своих «прав», кипящих от рессантимана и того настроения, которое французский философ называл esprit revendicateur[5].
Если, по слову Марселя, целая культура «закатилась», что означает, что ее высшие духовные смыслы «ушли за горизонт», что солнце христианско-гуманистических ценностей погасло в окопах Большой войны, то, по впечатлению о. Александра Шмемана, эту же самую культуру, «поразительную по своей тонкости», захлестнули волны новых фанатизмов с их тотальными разрушениями. В наследии французского философа аналогом упомянутой о. Александром переписки аббата Бремона и Мориса Блонделя является не так давно изданная его переписка с его близким другом отцом Гастоном Фессаром. Впечатление о необратимом затоплении «волнами времени» той же самой культурной Атлантиды с ее необыкновенной тонкостью и вкусом вызывает и она у своего читателя[Марсель, Фессар 1985].
Конфликт - вплоть до антагонизма - времени культуры и времени цивилизации (когда это слово, увы, становится чуть ли не эвфемизмом для «варварства») - константа европейской истории. Действует он и в 20-30-е гг. XX в., когда христианский гуманизм как тип культуры обнаруживает свою остаточную жизнеспособность в условиях цивилизованного крушения его идеалов, о чем согласно и в схожей тональности говорят Габриэль Марсель и о. Александр Шмеман. Как и в случае с веком Лейбница, в эту эпоху послезакатного «странного свечения» европейских основополагающих ценностей политическая составляющая в умонастроениях быстро растет и начинает определять собой пространство публичности в целом, что делает представителей высшего культурного круга если и не абсолютно невостребованными, то, по крайней мере, маргинализирует их творчество. И тогда их голос тонет «в вате» быстро поляризующихся политических страстей. Культуроцентрическое сознание, развиваемое на основе открыто смотрящего в мир христианского гуманизма, начинает звучать как бы шепотом, кулуарно и приватно. Но в 20-30 гг. можно с уверенностью сказать, что этого еще не случилось. В тогдашнем Париже, о котором у нас идет речь, существовал еще достаточно широкий круг духовно обеспокоенных людей, ищущих истину и Бога. Именно среди них и создаются такие объединения и неофициальные культурные институции, о некоторых из которых идет речь в переписке Бердяева и Марселя.
Сейчас во Франции историки внимательно изучают католический ренессанс, начавшийся еще в конце 80-х гг. XIX в. Тогда в 1892 г. молодым в то время Полем Дежарденом и Жюлем Ланьо было создано «Объединение за истину», или «Союз в защиту истины» (Union pour la Vérité). Пробудившийся интерес французских интеллектуалов к духовно-религиозному началу культуры нашел в нем свое характерное воплощение. Франсуа Шобе, современный историк из университета Тура, проведший исследование возвращения французской интеллигенции к католицизму, называет Поля Дежардена Пьером Бейлем XX века [Шобе 2002, 57].[6] Профессор ряда известных университетов Дежарден в конце концов нашел себя не в университетском преподавании, а в организации «площадок» для встреч и бесед представителей культурной элиты. Помимо «Союза в защиту истины» он организовал и знаменитые декады в Понтиньи, начавшие свою работу в 1910 г., но затем прерванные войной и возобновленные с 1922 г. Вот портрет Поля Дежардена, которого хорошо знал и любил Бердяев: «Это был человек, - говорит русский философ, - очень широкой культуры, специалист по греческой литературе. Он прекрасно говорил <...> Был душой Pontigny. Несмотря на свою умственную одаренность, он написал очень мало <...> Это был прежде всего культурно-общественный деятель, который имел обширную переписку с intellectuels всего мира, между прочим и со Львом Толстым» [Бердяев 1990, 255].
В 1926 г. произошло обновление этого «Союза». За два года до того его руководителями стали Габриэль Марсель и Леон Брюнсвик. Идея его обновления состояла в том, чтобы придать ему характер свободного университета. В архиве «Союза» сохранилась запись Держардена того времени: нужно, пишет он, создать в нем условия для оригинального преподавания, приглашая для этого самые «независимые, гибкие и творческие умы» [Шобе 2001, 58]. Марсель, в частности, читал здесь лекции по английской философии. Другими яркими лекторами стали Шарль Дю Бос, Бернард Гротуйзен и Рамон Фернандес, упоминаемые в автобиографии Бердяева и рекламируемые на обложке первого издания «Метафизического дневника» Марселя. Верующие и неверующие, рационалисты и мистики, представители разных профессий и конфессий встречались на этих собраниях и лекциях, обсуждали выступления, новые интересные книги и значительные события.
Для историка, конечно, важно выявить первую «материальную» встречу, прозвучавшую затем музыкой духовных резонансов. Когда же произошла такая встреча Бердяева с Марселем? Бернар Маршадье, историк современной мысли, считает, что Бердяев и Марсель познакомились у Маритенов на их вилле в Медоне под Парижем [Маршадье 2004, 43]. «Я написал, - пишет Маритен Бердяеву в своем письме от пятого марта 1928 г., - как мы договорились, Габриэлю Марселю. Не могли бы вы приехать в Медон в воскресенье, 18 марта, к 4 часам?» [Маритен 1992, 337]. Кстати, 18 марта - день рождения русского философа. Возможно, именно в этот день он знакомится лично с Габриэлем Марселем. На наш взгляд, это весьма вероятно. Но все же нужны дополнительные подтверждения этой версии. О последовавших за этой встречей волнах духовного и философского резонанса этих мыслителей мы уже писали[7]. Поэтому остановимся только на некоторых моментах, не повторяя нами уже сказанного. Обратим внимание на некоторые моменты явного схождения их философских установок и даже некоторых духовно-личностных черт.
Если мы внимательно будем читать книги Бердяева, то обнаружим в них немало высказываний, близких по мысли к Марселю. Приведем только некоторые из них. «Я не принадлежу к людям, - пишет Бердяев, - одержимым страхом смерти, как это было, например, у Л.Толстого. Очень мучителен был для меня лишь вопрос о смерти других, близких» [Бердяев 1990, 283]. Аналогично воспринимал проблему смерти и Марсель. Нередко оба философа цитируют одни и те же высказывания близких им авторов. Например, это относится к словам бл. Августина о Боге как о Том, Кто ближе ко мне самому, чем я сам. Вот слова Бердяева: «Я сам себе бываю чуждым, постылым, haïssable, но во мне самом есть то, что ближе мне, чем я сам. Это самая таинственная сторона жизни. К ней прикасались блаженный Августин, Паскаль» [Там же, 43]. Отношения к платонизму у них тоже близкие: «Я решительно, не только философски, но жизненно, - говорит Бердяев, - против реализма понятий, и в этом смысле я антиплатоник, хотя в других очень ценю Платона» [Там же, 280].
Можно указать также и на общие фундаментальные для обоих мыслителей оппозиции, прежде всего на противоположность экзистенции и объективности. Необъективируемость экзистенциального «измерения» ими обоими принимается в равной мере. О взглядах Марселя в этом плане мы уже писали в нашей книге о нем. Поэтому обратимся к русскому мыслителю. «Объект, - говорит Бердяев, - означает исчезновение экзистенциальности» [Там же, 263]. Экзистенциальная сфера, и по Бердяеву и по Марселю, есть сфера духа, личного начала, свободы. Ее приоритет по отношению к миру объектов они оба признают в равной степени и связывают его с «трансцендированием» (Бердяев) или с преодолением «субъективной замкнутости» в «причастности к лучшему» (Марсель). Недаром Бердяев, читая главное произведение Марселя - «Метафизический дневник» (1927), - обратил внимание именно на приложение к нему, озаглавленное «Экзистенция и объективность» и в конденсированном виде излагающее основную идею Марселя о недоступности для объективации личностной реальности. В своей работе «Я и мир объектов» (1934) русский философ прямо утверждает свою позицию: «Существование не есть объект» и делает к этим словам примечание: «Очень близок к этому Gabriel Marcel. См. его "Journal métaphysique", особенно приложение, которое прямо трактует вопрос об объективации» [Бердяев 2006а, 57]. Это - прямая отсылка Бердяева к работе Марселя. Их у него немного. Точнее, немного прямых референций. Но зато очень много, и уж точно немало, скрытых перекличек. Ну, например, из той же книги: «Отношение к будущему, то есть изменению времени, определяется не только как забота, но также как творчество, не только как страх, но также как надежда» [Там же, 107]. Здесь Бердяев полемизирует с Хайдеггером, с его понятиями, развитыми в недавно вышедшем тогда «Бытии и времени» (1927). И полемизируя с немецким философом, он предвосхищает будущие исследования Марселя по феноменологии и метафизике надежды. Правда, опережая мысль Марселя о надежде, он идет по следу Спинозы, а не по тому пути понимания надежды, по которому затем, можно сказать, весьма скоро пойдет французский философ. Дело в том, что Марсель противопоставляет надежде не страх, как это было у Спинозы, а затем у Эрнста Блоха, а отчаяние [Визгин 2008, 284]. Но нам здесь важно то, что русский мыслитель близок к французскому философу: они оба не приемлют мысли Хайдеггера, и их возражения ему однонаправленны, можно сказать. Бердяевские высказывания в адрес стиля Хайдеггера («невыносимая терминология», которая «оригинальнее мысли») также близки к оценке его языка Марселем. Но с годами Марсель яснее станет осознавать значительность мысли Хайдеггера (имея в виду его поздние работы), считая, что его собственная философия ближе к ней, чем к философии Ясперса, им не без интереса воспринятой в начале тридцатых годов.
Пожалуй, главное, что не приемлют у Хайдеггера эпохи «Бытия и времени» оба философа, так это его «эгосмертоцентризм», то есть установку, согласно которой моя индивидуальная неповторимая смерть - абсолютный центр моего Dasein. Вот высказывания Бердяева по этому сюжету: «Гейдеггер <...> видит в смерти бóльшую глубину, чем в жизни <...> Мне представляется эта современная направленность поражением духа, упадочностью "смертобожничеством"» [Бердяев 2006б, 17]. Эту мысль, высказанную им в книге «Царство Духа и царство Кесаря», он варьирует, фактически повторяя ее в «Экзистенциальной диалектике божественного и человеческого». «Гейдеггер, - говорит русский философ, - принужден также (как и Фрейд - В.В.) признать смерть более высоким, чем Dasein, погруженное в обыденность, в das Man» [Там же, 242 - 243]. Марсель в целом разделяет эту критическую позицию, но в отличие от русского мыслителя сильнее, чем он, подчеркивает отсутствие у немецкого философа центрированности на «Ты», его мрачный эстетизм одинокого индивида перед лицом ожидающей его смерти. Французский философ противопоставляет здесь Хайдеггеру иную оценку онтологических весомостей: смерть любимого другого важнее для меня, говорит он, чем моя собственная. Бердяев в целом принимает эту позицию Марселя, хотя прямых свидетельств отношений к ней мы у него и не нашли. Но он всегда с акцентом цитирует Паскаля с его фразой: Moi est haïssable (я сам для себя ненавистен). И «смертобожничество» Хайдеггера он объясняет его укоренностью в германском духе, в котором «есть глубина», но нет «сил воскрешающих» [Там же]. А нет их потому, что у Хайдеггера, как говорит русский философ, «все идет снизу, а не сверху, и никакого верха не существует» [Там же, 207]. С такой оценкой немецкого философа, думаю, согласился бы и Марсель. Ведь надежда, а также «Ты» и «таинство бытия» - все это у Марселя и есть сфера «верха», философски-апофатически указуемого, экзистенциально переживаемого, присутствующего, но при этом недоступного объективации, предметно-рациональному «полаганию» и логическому определению.
Первая половина XX в. - золотой век русской философии. Серебряный век русской культуры вобрал в себя золотой век философии в России. Это был высочайший взлет русской философской мысли.
Первым эшелоном русской культуры, заслужившим мировое признание, была русская литература XIX в. Философская мысль России шла по следу ее невиданного подъема и последовавшего за ним признания[8]. Именно в связке с русской литературой воспринималась она на Западе теми, кто способен был ее воспринять и оценить. Не отвлеченные метафизика и логика made in Russia впечатляли европейские души, а философское осмысление путей, основу которых заложили Толстой и Достоевский. Западу интересен был наш религиозно-нравственный подъем, глубокая этическая проблематика, историософия, сюжеты эсхатологические и пророческие. И вряд ли кто-то из славной плеяды русских философов той эпохи сравнится в этом с Н.А. Бердяевым, самым дошедшим до западной души русским мыслителем, сопоставимым в этом отношении разве что только с Владимиром Соловьевым. Получивший широкое признание на Западе Бердяев оказал на его мысль существенное воздействие, способствуя подъему экзистенциально-персоналистического философствования. Событием значимой и по сей день встречи России и Европы стало его знакомство и быстрое внутреннее сближение с Марселем, изучение которого только еще начинается.
Оригинал статьи