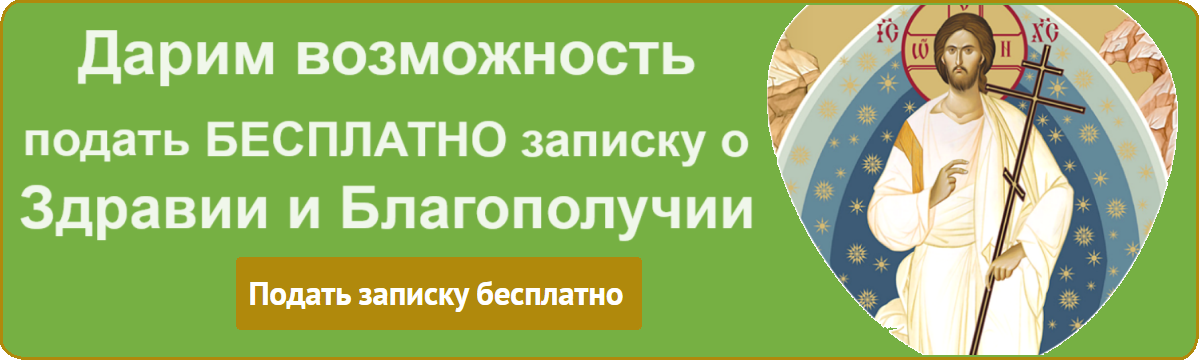- Лента
- |
- Участники
- |
- Фото 29
- |
- Видео 0
- |
- Мероприятия 0
АЛЕКСАНДРА. Рассказ.
Ах, как тяжело быть тяжёлым человеком. Невозможно жить на свете, когда ты - тяжёлый человек! Тяжёлое неповоротливое тело; тяжёлые мозги и привычки; аморфность самого существа твоего, когда ты - женщина, обременённая аж четырьмя детьми; когда тебе за тридцать, и ты с одышкой, внутренним кряхтеньем и скрипом разворачиваешься, как танк, и всей этой тяжестью прёшь на окружающую среду.
Прошелестеть бы … промелькнуть тихонько, как мышка… Полетела бы; растворилась, растаяла! - не получается: прёшь! Пригвождённая к земле. Вся такая весомая, грубая и зримая.
Вот и попробуй держаться молодцом в этом ужасном мире, где принимают за данность эти внешние габариты, и никому нет дела до той нежнейшей девочки Дюймовочки, которая сидит внутри твоего «танка» и есть душа твоя и вся внутренняя сущность.
В юности как-то отождествляешься с нею и внешне: бегаешь - ветром; гнёшься - лозой; вьёшься - лианой… тонкая, звонкая, гибкая, статная.
Где?!. - налетел жук майский, кот мартовский: помяукал - пока март; пожужжал, пока май. Август одна встречай, ветка яблоневая: облетели цветы, желтеют листья … а на тебе всей своей тяжестью четверо повисли. Плоды твои наливные, румяные - плоды любви несостоявшейся.
Вот и сиди теперь перед зеркалом. Коса - и та тяжёлая! - медно-рыжая, ниже пояса. От девичества осталась. И голова от её тяжести болит, а раньше и не чувствовала: ветер в кудрях гулял…
Смотрела в зеркало Александра на свой многострадальный живот, кесарским сечением располосованный - горючими слезами умывалась. Зачем рожала? для кого? во имя чего всю красоту свою по ветру пустила в свои ещё молодые годы?!. - а дети приникали головками к шрамам ; прижимались носиками и щёчками к мягкому, как подушка, материнскому животу… мил им был её «нестандартный» живот и вся она со всеми многочисленными своими несовершенствами. И снова путалась Александра: во имя детей! Им - мила и нужна; они - любят; они - не предадут… Молодчина, что родила - выращу! В них вся красота и молодость моя сохранятся, никуда не денутся… - и с этими мыслями она отворачивалась с презрением от зеркала и жила какие-то дни и недели.
Но всё равно приходила ночь. Та самая, единственная в своём роде, на другие ночи непохожая - инквизиторская. Она приходила всегда неизменно и точно, как кошмар или навязчивая идея - и, приходя точно, всё же сваливалась, как снег на голову, - неожидаемая и предательская. Когда Александра, как рыжая пантера, металась по постели в смертельной схватке с невидимым чудовищем, которого она не знала раньше и которому дала имя - страсть.
Из этой ночи; из этой лютой схватки она выползала раздавленная, почти мёртвая, с окровавленной душой и единственным желанием: не жить! - не жить, чтобы этого не повторилось больше. Ибо помимо общей смертоносной невыносимости такого дикого попрания собственного естества и достоинства существовала ещё более страшная вещь: эти лютые муки женского одиночества, казалось ей, начисто уничтожали в ней человека, и они уничтожали в ней мать.
Вся обескровленная и разбитая, она не видела своих детей; она не слышала их. Каждый возглас ребячьей возни как ножом пронзал её уставший мозг; каждая невинная проказа сражала до смерти… ей нужны были, по крайней мере, сутки, чтобы, наглотавшись всякой успокоительной дряни, погрузиться в спасительный сон, отдохнуть и набраться новой воли к жизни - но этих суток не было у Александры, потому что она была совсем одна у своих детей.
И стоило ли всю юность зачитываться умными книжками про правильное воспитание детей и всей душой усердно стремиться сим мудрым книжным советам следовать, если заканчивалось всё её «воспитание» жесточайшим истерическим припадком, и она колошматила малышей до боли в руках, а потом выла на полу в истерике, затравленными глазами глядя в их насмерть перепуганные мордочки… пока вместе с физической разрядкой не прояснялось в глазах и не приходило сознание ужаса и кошмара, который она творит собственными руками над собственными детьми.
Старшие, мальчик и девочка четырёх и пяти лет, с обезумевшими от страха глазёнками, всё же защищали от материнского ремня двухлетних близнецов и стояли насмерть, подставляя под удары свои худенькие спинки и плечики - и Александра постепенно приходила в себя и видела всю эту круговую оборону и розовые полоски на спинах детей… приходил страх; приходил жгучий стыд, и … ничего, никаких побоев не страшились старшие дети так, как этого тонкого, длинного кликушьего вопля, которым часами в полубеспамятном отчаянии кричала и плакала их несчастная мамка… Четырёхлетний Богдан, прижавшись к стенке, просто орал благим матом от страха и ужаса - а старшенькая Кристиночка, обняв карапузов, стояла молча, сдвинув бровки и не сводя с матери внимательных синих глаз. Как врач сосредоточенно ожидает окончания приступа у больного, так она терпеливо ждала - и, дождавшись затишья, первая подходила к матери, обнимала её, тихонько гладила по волосам и говорила вполголоса: « Мамочка, мы больше никогда, - мы никогда-никогда не будем огорчать тебя, мамочка …». Она повторяла эту фразу твёрдо и убедительно; она подносила её, как лекарство - и Александра пила это горькое лекарство из тоненьких детских рук; и целовала эти руки; и поливала слезами своих горемычных малышей - и затихала; и засыпала, почти теряя сознание, прямо на полу - а Кристинка тащила с дивана громадное для её росточка одеяло, заботливо укрывала маму и, сдвинув бровки, шла сажать на горшки, раздевать и укладывать младших…
Так и жили.
Остальное было - как во всех нормальных семьях: прогулки, чтение сказок; пели вместе, рисовали, лепили… наряжала их Александра, как куколок … и только ужас ожидания этой «страсти» висел над их семейкой дамокловым мечом.
А в промежутках была суета, работа и даже какие-то общественные обязанности. Зимой Александра попросту «терялась»: она уползала в свою тяжёлую «раковину» и становилась «невидима невооружённому глазу»… широкое тёмное пальто, платок, авоська... нет ни глаз, ни чувств - нет живого человека: движется по заснеженной дороге большая сосредоточенная черепаха, и никому нет дела, что у этой черепахи под панцирем.
Зато весной ей было там не усидеть.
Дети вскрикивали от радости, не узнавая мать, когда она приходила за ними в детский садик: откуда-то из глубин самой озорной юности возникали «глаза-изумруды»; и завитая чёлка что-то непонятное творила с лицом; и какая-то особенная вишнёвая помада на губах, и платье с вышивкой, подчёркивающее талию, грацию и всё такое - и какой-нибудь час-другой Александра вообще могла пребывать в невесомости, и тогда на неё оглядывались и заглядывались. Но уходил этот час, наваливалась усталость, гасли её « изумруды», мгновенно тяжелела походка - привычная боль схватывала поясницу, и снова - тяжесть, тяжесть, тяжесть … и невозможность вырваться из-под тройной этой тяжести.
Сколько лет как ушёл муж? - три года, четвёртый… близнецы не родились ещё. А она же его любила. И ни на кого не глянула с тех пор. То ли совершенно некогда и не до того - то ли и глядеть-то было просто не на кого.
Наступила поздняя весна - конец года, совершенно сумасшедшее время. И на каком-то рабочем собрании Александра увидела и ощутила, что пришёл её последний миг… Она влетела туда, опаздывая. Она ворвалась, неся с собою свой «звёздный час» - ослепительная в этой своей тяжёлой красоте женского несовершенства - и на неё оглянулись; ей улыбнулись; всем приятно было глядеть на неё, и она рада была всем сидящим - и её прервал старомодный колокольчик со стола президиума. В жизни никогда и никто не звонил ни в какие колокольчики у них на работе… Александра глянула на звонившего, и внутрь сердца горячей мощной струёй вдруг хлынул отчего-то голос Высоцкого:
« … М-медный кол-локол-л-л …
Медный кол-локол-л-л
То ль возрадовался,
То ли осерчал-л-л …»
Сердце её гремело и ныло медным колоколом - и это был набат; и медный колокол был в совершенной панике… он и сам не знал, возрадовался он или осерчал … - и единственный вопрос стучал в виске Александры: чей - такой?. Чей?!. - и за что ей - это… что она сделала; в чём провинилась-то, Господи…
За столом в числе прочих знакомцев сидел незнакомец. Сказать «безусый» - несправедливо, поскольку он вот именно был в усах. В нежнейших мальчишеских усах; убийственно юн - так что коль и не безусый, то уж во всяком случае абсолютно желторотый. Он звонил в колокольчик; он глядел на Александру горячим взглядом тёмных глаз; он хмурил соболиные брови и укоризненно качал головой, призывая к порядку … Ей пришлось сходу «скрестить» с ним, так сказать, «идеологические шпаги» по работе, и она при всём своём заслуженном авторитете « отдула» этого невесть откуда взявшегося желторотика так, как он того заслуживал - но потом они вместе гурьбой шли с собрания, прродолжая свои дебаты; Александра то и дело сталкивалась с ним плечом и внутренне погибала…
… Во была ночь !!. - её даже уже не мучил больше вопрос - чей? - она спросила его об этом напрямую, настолько невозможно дальше было оставаться в неведении…
« … если он женат -
пусть вместо платья саван мне кроят…» -
ни зла, ни юмора не хватало ей, бедной, при одной мысли о такой-то «Джульетте» - в тридцатник да с четырьмя…
Не женат. Ничейный, стало быть.
Впервые за много-много единиц своего женского одиночества Александра была счастлива. Она смеялась в чёрную ночь со своей белой постели, понимая, что он, глупый мальчик Виталька со своими такими старомодно-прекрасными глазами, не спит сейчас, а видит её … видит её такой, какой она отражается сейчас в зеркале, и что именно она нужна ему в этот час такая, как есть. За долгих три года он был первый, на кого откликнулось её сердце, и она чуяла, что заклеймила его сейчас медовой печатью, потому что вся она словно превратилась в мёд. « - Виталь, Виталь, Виталь … помни меня, люби меня … люби меня, помни меня …» - заклинала она почти вслух, - и вот этот мёд, клубясь, почти видимо окутывал со всех сторон беззащитное тонкое тело глупого мальчика - проникал в сердце, обдавал мозг... и бедный мальчик не спал. Бедный мальчик метался в любовной тоске – и помнил её, и любил её… В эту ночь Александра была свободна, как птица, от своего давнего врага - «страсти», - как если бы увлёкшийся до самозабвения враг терзал сейчас другую жертву…
Встретившись с Виталем на работе наутро, она всю эту информацию прочла у него на лице, написанную крупными буквами, но - он был совершенно неправдоподобный мальчик: он опустил перед ней горячие свои глаза - горючие её слёзы.
А потом они вместе работали летом в совхозе на усадьбе.
Он ворочал тяжёлую мужскую работу, она - женскую, полегче.
И он всегда приходил ей на помощь: видно было, что - ревниво стерёг любой нужный момент, чтобы вовремя оказаться рядом. Однако оказывал помощь неожиданно хмуро, малоприветливо - и, окончив, моментально и решительно уходил. В том числе и от всяких выражений благодарности и признательности.
Александра не могла понять причины такого двойственного и противоречивого его поведения.
А между тем невидимая струна, натянутая между ними, уже звенела от напряжения, и ток от неё становился всё более ощутимым для окружающей их рабочей компании… Александра, будучи старше и опытней, с ужасом это сознавала. Мало того, что сослуживцы - её собственные дети внимательно и недоуменно вглядывались в неё, такую другую, чем в их одинокой квартирке в городе - здесь у костров, с пением под гитару, с этой особой озарённостью и окрылённостью … Особенно Богданчик ревниво и чутко следил за мамой, тревожно и неохотно расставаясь на время работы, стараясь не отпускать от себя при любой возможности … она самым краем материнского инстинкта всё это ещё чуяла. И сознавала, что «струна» эта ею должна быть так или иначе «ослаблена», пока не грянул какой-нибудь гром…
В самое первое своё дежурство на общей кухне Александра волновалась не потому, что ей одной предстояло накормить тридцать человек,- а потому, что нужно было накормить Виталя. Её сотрудницы - отменные хозяйки, мужние жёны; для них это просто рядовые дежурства. Но ей-то нужно было неизвестно зачем, чтобы именно Виталь - похвалил …
Так волновалась, ворочалась с боку на бок на своём тюфячке на дощатом пахучем полу, не спала полночи - а в пол-шестого утра, когда она сладко уснула и видела десятый сон, Виталь разбудил её на дежурство.
Он всех дежурных всегда будил. Это была его обязанность. Он здесь вообще вставал раньше всех, работал тяжелее всех, ложился позднее всех… Александра это прекрасно знала.
И тем не менее он застал её врасплох. В сладком сне; в беспамятстве. Она почувствовала, как кто-то легонько трясёт её за плечо: - «Александра! - пора, половина шестого…» .
Александра открыла глаза, медленно переносясь в явь. Прошли какие-то долгие секунды, прежде чем глаза её узнали эти другие глаза, склонившиеся над ней, - и уставились в них непонимающим взглядом. «Ты дежуришь сегодня, - объяснил Виталь шёпотом, стараясь не разбудить детей и соседок, которым вставать надо было на полтора часа позже.
Но как только глаза её приняли осмысленное выражение, он немедленно убрал руку с её плеча. А едва она перехватила его взгляд, успев проникнуть невольно в самую сокровенную глубину и разглядев всё- всё, что кричало там, в глубине - он опустил глаза и отошёл прочь, замкнувшись на семь замков.
Она превзошла самоё себя и заткнула за пояс всех своих "дам": все тридцать человек единодушно просили добавки; все комплименты были щедры, громки и выразительны, но… Виталя не было. Он пришёл уже тогда, когда Александра, кусая губы и сдерживая слёзы, домывала гору посуды.
В кухне давно никого не было. Он сел один в торец длинного стола и взял ложку. Александра молча понесла ему полную тарелку супу: «Остыло всё.» .
- Ничего страшного.
Ей мучительна была эта его замкнутая холодность, эти односложные вопросы и ответы, это нарочито «продуманное» равнодушие … она платила ему тем, что молча, тщательно, предупредительно служила ему, как если бы была ему самой преданной, но и самой бесправной служанкой. Гордость её - даже не женская, нет,- просто человеческая - оскорблена была фальшью поведения этого человека.
«Ну. вот, - он кончил есть. - А говорила, что готовить не умеешь.
- Понравилось ?
- Очень вкусно.»
Это было всё, что ей нужно.
А однажды случилось ЧП, поднявшее на ноги весь совхоз: потерялись двухлетние двойняшки Александры Кир и Кира.
Вины матери в этом происшествии не было: она работала на усадьбе, а за их групповым «детским садом» закреплены были две дежурные мамаши-воспитательницы.
Александру ноги не несли. Она тупо вставала, садилась, пыталась куда-то бежать - и снова садилась посреди усадьбы. В глубине души было чувство тупой тоски и ожидания самого худшего. Она ждала почему-то, что рано или поздно к ней принесут её детей утонувшими в холодном, как лёд, прозрачном ключевом источнике, и это будет ей справедливым наказанием "за всё". Перед глазами, как наяву, виделись посиневшие губки и откинутые головки с мокрыми кудряшками на тонких шейках: одна тёмно-рыжая, другая совсем светленькая…
На фоне полыхающего заката она увидела Виталя. Он нёс ей навстречу двух её малышей - живых, замурзанных и всхлипывающих. Их разделяла низкая изгородь; дети, отцепившись от шеи Виталя, с рёвом вцепились в Александру, а она, приняв их с рук на руки, только и смогла выговорить: - Спасибо… если б ты знал ….
- Не нужно мне таких благодарностей, - отрывисто произнёс Виталь. - Я был бы тебе крайне благодарен, если бы ты за детьми смотрела… - и, отходя, ещё более жёстко добавил: - Поседеешь - с такими мамашами…
Александра купала детей, укладывала их спать, потом стирала и сушила утюгом одёжку… сердце ныло от горя, от невысказанности, от несправедливости всей ситуации. - Пойти и сказать! - рвалось у неё в голове. - Пойти и сказать… за что?!. - что я сделала; в чём перед тобой виновата; зачем ты со мной это делаешь, за что так казнишь …
«Казнь» заключалась в том, что - зачем он встал рядом с нею?!. - зачем делает ей столько добра; так помогает, как будто он ей брат, отец или муж; зачем так нежен с её детьми… «куда тебе в нашу безрадостность; зачем ты встал на это святое наше пустое место; зачем детей к себе приваживаешь; сердце моё приваживаешь, - зачем искушаешь его…» - Александра в который раз мысленно ужаснулась, представив себе Виталя в сочетании с её семьёй: «…да ему нужна юнейшая девчоночка под стать ему самому; нужны собственные счастливые родные дети; ему нужно чистое юное счастье, он его достоин… за что же нам такая боль?!. за что мне - такое страшное искушение ?!.» - она сидела вся зарёванная на своём тюфячке, укладываясь спать, расчёсывала перед сном волосы и произносила мысленно эти свои горючие монологи…
Виталь вошёл с очередными распоряжениями на завтра. Увидел её. И так и остановился с открытым ртом. И не отвёл, как обычно, взгляда - а, наоборот, уставился во все глаза на рыжую копну её волос, которые она не успела заплести на ночь в косы. Медленно и как-то странно оглядел её всю. Оглядел спящих детей. Лицо его приняло такое выражение, которого даже предположить в нём не могла Александра, а ещё менее - истолковать… попятившись назад к двери, он стремительно выбежал на лестницу и исчез в ночи.
Вот это было уже последней каплей.
Александра, вскочив и дрожа, накинула халат, нашарила платок, оглянулась на спящих малышей и тоже выбежала в ночь.
Она даже не знала толком, где жил Виталь. Уступив мамашам с детьми двухэтажный деревянный домик, ребята расположились кто в палатках, кто в вагончиках, кто в сарайчиках - мимо них в кромешной тьме летней ночи бежала Александра на единственный огонёк света, мерцавший в оконце самого крайнего полуразрушенного сарайчика, который примыкал уже вплотную к саду.
Встав на тропинку, ведущую в сад, Александра перевела дух и пошла тихо, стараясь ступать как можно неслышнее.
Вот и окошко. Она, затаив дыхание, приникла к стеклу…
Виталь, почти спиной к окну, стоял на коленях, обеими руками обняв табуретку, у которой висела на стене какая-то невразумительная старая икона, освещённая фитильком. Александра вдруг поняла, что он плачет, уткнувшись лицом в эту несчастную табуретку … - и тут вдруг что-то пронзило её изнутри обжигающей болью, жгучим стыдом, острой жалостью, каким-то детским сердечным трепетом… Она совершенно не понимала открывшейся её взору ситуации умом - но каким-то непостижимым наитием, внутренним светом, интуитивно - приняла её в себя, как принимала на грудь каждого из только что родившихся своих малышей… Виталь, то есть, как бы принадлежал этой иконе. Ну, или Тому, Что стояло за этой иконой. Он принадлежал ей - но вот теперь, стало быть, умолял её отпустить его. Отпустить к ней, Александре, и к её детям. Но этого было нельзя. Почему нельзя – этого не понимала Александра: она видела, что только этого сейчас желал Виталь, только об этом он молил сейчас и даже лил слёзы - но ей нельзя было становиться между ним и этой иконой; ей - нельзя было "соперничать" с ней за него… И Александра, неизвестно почему, приняла это «нельзя»… и как только приняла - брызнули из глаз её странные, «нездешние» слёзы (при том, что слёз в её жизни уже было предостаточно, такими она плакала впервые) - и сколько времени они оба вот так проплакали в той незабвенной ночи один там, другая здесь, на ночном холоде, - знала, может быть, эта чёрная закопчённая икона, на которую они оба смотрели, обливаясь слезами.
Когда холод ночи пробрал её всю до косточек, она тихонько попятилась от окошка, пробежала тропинку и тайком вернулась к себе.
Рано утром, когда Виталь пришёл будить очередных дежурных, он застал Александру сидящей на собранных сумках.
- Почему не спишь? - спросил строго.
- Я уезжаю сегодня утром, Виталь.
Бесконечное изумление, горе и радость одновременно отразились у него на лице.
- Что случилось ?!. - неизвестно чему как будто не смея верить, спросил Виталь, всё больше и больше отчего-то волнуясь.
- Ничего. Чувствую, что заболеваю. С работой не справлюсь, а вы - с малышами моими...
Виталь вдруг порывисто обернулся куда-то к окну и сделал жест, который Александра видывала только в кино: он торжественно, широко, самозабвенно перекрестился на восходящее солнце и медленно поклонился до земли.
Обернулся к ней.
- Не я чем обидел часом ?
Александра безмятежно улыбнулась: - Не ты, не ты. Говорю же - заболеваю, в город нужно.
- Я провожу к автобусу. Дети проснутся, вы ещё успеете позавтракать не спеша.
Они действительно позавтракали не спеша, и Виталь проводил их к автобусу. Нёс чемодан и сумку, и малыши цеплялись за его оттопыренные для них мизинцы. Но это был, наконец, совершенно другой Виталь!!. - ни тени не осталось от его былой фальшивой холодности, - он смотрел на Александру светло, счастливо, открыто - не тая больше от неё всей огромности своей любви и нежности, но - качество этой его любви и нежности было ново и поразительно для Александры… (и она не знала ещё тогда, что как раз этого качества любовью и нежностью старомодно-прекрасного мальчика Виталя уже навсегда побеждён в ней её ненавистный невидимый враг, называемый «страстью»…)
Разместив вещи и усадив малышей, Виталь вышел из автобуса. Она вышла за ним: - Спасибо, Виталь.
- Прости меня Христа ради. Прости за всё и лихом не поминай. Не помянешь?
- Я не забуду, Виталь, поминать тебя добром.
- Береги себя. Детей береги. Бог не оставит вас, вот увидишь. - Виталь поклонился ей; поклонился отъезжающему автобусу …
Перед тем, как автобусу повернуть на трассу, поднял руку …
Это было давно.
Больше они не виделись.
Но Бог действительно не оставил их.
Популярное видео
-
03:01

Кубанский казачий хор Прощание славянки
Олег · 2269 просмотров -
04:50

Барышские храмы Churches of Barysh
Юлия · 2066 просмотров -
05:45

Рождественское поздравление в воскресной школе "Радуга"
Сергей · 1366 просмотров