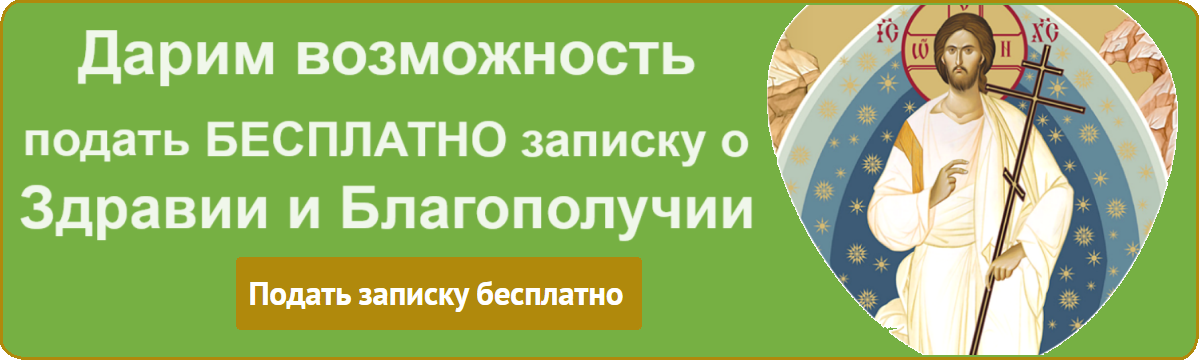- Лента
- |
- Участники
- |
- Фото 2143
- |
- Видео 50
- |
- Мероприятия 0
Иосиф Бродский. Полторы комнаты.
44
Что она и делает во все растущем объеме. И все-таки можно извлечь
некоторое утешение, если не надежду, из того факта, что генетический код
пусть и не смеется последним, но оставляет за собой последнее слово. Ибо я
благодарен матери и отцу не только за то, что они дали мне жизнь, но также и
за то, что им не удалось воспитать свое дитя рабом. Они старались как могли
-- хотя бы для того, чтобы защитить меня от социальной реальности, в которой
я был рожден, -- превратить меня в послушного, лояльного члена общества. То,
что они не преуспели в этом, что им пришлось заплатить за это тем, что их
глаза закрыла не рука их сына, но анонимная рука государства,
свидетельствует не столько об их упущениях, сколько о качестве их генов, чья
комбинация образовала тело, найденное системой достаточно инородным, чтобы
его отторгнуть. И если вдуматься, чего еще ждать от наложения друг на друга
их готовности терпеть?
И если это звучит бахвальством, пусть так. Смесь их генов заслуживает
того, чтобы ею гордиться уже хотя бы потому, что оказалась способной
противостоять государству. И не просто государству, но Первому
Социалистическому Государству в Истории Человечества, как оно предпочитает
величать себя; государству, особенно преуспевшему в генной инженерии. Вот
почему его руки всегда омыты в крови -- в результате экспериментов по
изоляции и обездвиживанию клеток, отвечающих за человеческую волю. Итак,
принимая во внимание объем этого государственного экспорта, сегодня,
собираясь построить семью, следует интересоваться не группой крови или
приданым, а его или ее ДНК. Не потому ли некоторые народы косо смотрят на
смешанные браки?
Передо мной две фотографии родителей, снятые в их молодости, на третьем
десятке. Он на палубе: улыбающееся беззаботное лицо на фоне пароходной
трубы; она -- на подножке вагона, кокетливо машущая рукой в лайковой
перчатке, на заднем плане поблескивают пуговицы на тужурке проводника. Ни
один из них еще не знает о существовании другого; ни один из них тем более
не знает обо мне. К тому же невозможно воспринимать другого, существующего
объективно вне вашей физической оболочки, как часть себя. "Но не были мама и
папа / Другими двумя людьми", как говорит Оден. И хотя мне не дано облегчить
их прошлое даже в качестве мельчайшей возможной частицы любого из них, что
может помешать мне теперь, кргда они объективно не существуют вне моего
сознания, рассматривать себя как их сумму, их будущее? Так, по крайней мере,
они свободны, как при своем рождении.
В силах ли я побороть волнение, думая, что обнимаю свою мать и отца?
Могу ли я отнестись к содержимому своего черепа как к тому, что осталось от
них на земле? Возможно. Я, по-видимому, способен на такой солипсический
подвиг. И полагаю, что лучше не противиться их сжатию до размеров моей,
меньшей, чем их, души. Думаю, что справлюсь. Должен ли я промяукать в ответ,
сказав себе "Киса"? И в какую из трех моих комнат должен я сейчас побежать,
чтобы это мяуканье прозвучало убедительно?
Я -- это и есть они; я и есть наше семейство. И поскольку никто не
энает своего будущего, не уверен, что однажды сентябрьской ночью 1939 года в
уме у них промелькнуло, что они обеспечили себе выход. В лучшем случае,
полагаю, они думали о том, чтобы завести ребенка, создать семью. Довольно
молодые, к тому же рожденные свободными, вряд ли они понимали, что страна,
где они родились, -- это государство, которое само решает, какая вам
положена семья и положена ли вообще. Когда они поняли это, было уже слишком
поздно для всего, кроме надежды. Что они и делали, пока не умерли: они
надеялись. Люди, настроенные по-семейному, они не могли иначе: надеялись,
старались, строили планы.
45
Мне хотелось бы верить, что они для своего же блага не позволяли
надеждам зайти слишком далеко. Боюсь, мать все-таки позволяла; если это так,
что объясняется ее добротой, отец не упускал случая указать ей на это
("Самое бесперспективное, Маруся, -- объявлял он, -- это прожектерство").
Что до него, то я вспоминаю, как солнечным полднем вдвоем мы гуляли по
Летнему саду, когда мне было не то девятнадцать, не то двадцать лет. Мы
остановились перед дощатой эстрадой, на которой морской духовой оркестр
играл старые вальсы: он хотел оделать несколько фотографий. Белые мраморные
статуи вырисовывались тут и там, запятнанные леопардово-зебровыми узорами
теней, прохожие шаркали по усыпанным гравием дорожкам, дети кричали у пруда,
а мы говорили о войне и немцах. Глядя на оркестр, я поймал себя на том, что
спрашиваю отца, чьи концлагеня, на его взгляд, были хуже: нацистские или
наши. "Что до меня, -- последовал ответ, -- то я предпочел бы превратиться в
пепел сразу, нежели умирать медленной смертью, постигая сам процесс". И
продолжал фотографировать.
1985
Перевел с английского Дмитрий Чекалов