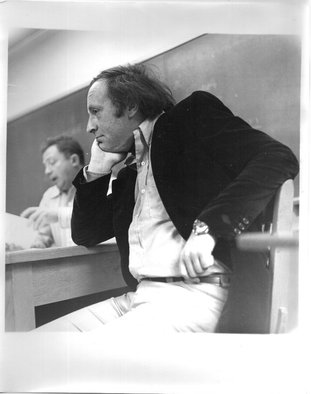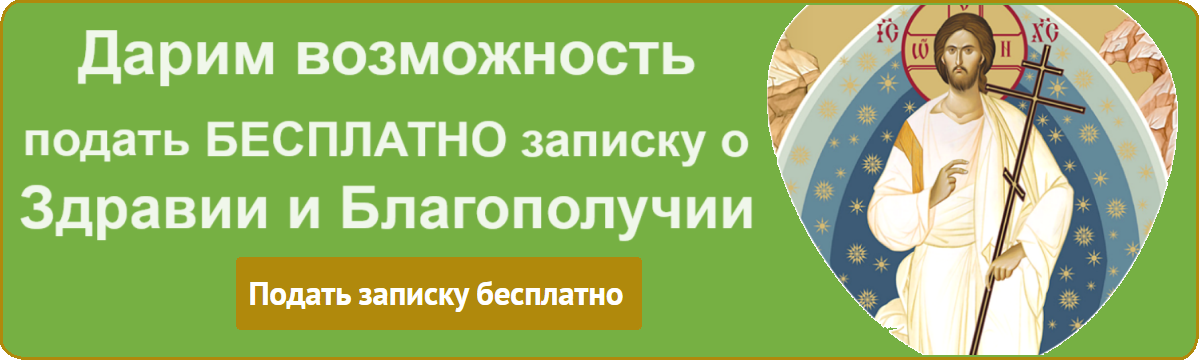- Лента
- |
- Участники
- |
- Фото 2143
- |
- Видео 50
- |
- Мероприятия 0
Дневники Томаса Венцлова
30. Ecriture [способ писания] Иосифа — наверно, прозаичность; превращение перифразы, инверсии и переноса в норму. Это выбрано, исходя из темы, времени, традиции, и это лучший выбор. Все остальное — стиль, который сам выбирает человека и с которым спорить нельзя.
Боюсь за И. и за его довольно катастрофический образ жизни.
Сегодня возвращаюсь в Вильнюс. [...]
31. В Вильнюсе. [...]
С Натальей [Трауберг] читали «Натюрморт»: оба в один голос сказали, что это та же «Бесплодная земля» [Элиота], только короче и лучше. Конец понимаем по-разному: она — «оптимистичнее» («типичные иезуитские медитации»), я — как выражение «героического агностицизма» (И. скорее на моей стороне).
IV. 4. [...]
Иосиф общается с астрономом Козыревым и очень им очарован.
Усиливающееся одиночество, комплексы И. Желание поощрений («вот это место — ведь замечательно?»), словно бы он не верил, что умеет писать. N.B. Его идея изготовить серию стихов-икон, таких как «Сретенье», охватывающую весь цикл Христа.
29. [...]. [28-го автор приехал в Москву].
И еще — Эра встретила Рейна. Тот вчера видел Евтушенко, только что вернувшегося из Америки (таможенники раздели его догола и шмонали как Ворошильского). Евт. заявил: «Дела Бродского в порядке — он сможет уехать».
Надо порадоваться за Иосифа — здесь он близок к смерти. Но какая пустота возникнет с его отъездом!
В общем — в этой стране скоро не останется никакой «соли земли». И тогда каторга станет всего безнадежнее.
V. 1. Звонил Бродскому [из Москвы] в Ленинград. Услышав мои намеки, он расхохотался: «У меня нет никаких дел, и поэтому они не могут быть в порядке. Сижу и честно зарабатываю свою пайку, переводя рабби Тагора — дерьмо отменное». Рейн, конечно, мог и приврать. Евтушенко — тоже. А может, тут и что иное.
7. [...]
Зашел Рейн с женой — он опять заявлял, что Иосиф уезжает. [...] 15. [...]
Созвонился с Иосифом — он, как из «конспиративного» разговора кажется, действительно едет.
17. [...]
У Люды Сергеевой. Недавно — три недели назад — ее посетил Бродский [...]. [Обсуждались возможности отъезда и препятствующие этому причины.] Плюс — ностальгия, может, и невозможность приспособиться: вряд ли он повторит «казус» Набокова (Набоков выучил английский, так или иначе, в раннем детстве). Другие обычаи: у нас все решает дружба, такая, как возникает в концлагере — делятся последней папироской. На Западе этого, несомненно, нет. И все-таки, если бы он (или кто-то другой) попросил бы у меня совета, мне бы осталось только процитировать известный рассказ Джерома. То есть выбирай любимую красотку, а не гнусную старуху, и никаких советов не слушай.
19. Встретили Профферов — Карла и Эллендеа. Наконец-то все выяснилось.
Первого мая, когда я звонил Иосифу, он еще ничего не знал. А девятого [на самом деле, видимо, двенадцатого] мая его вызвали в ОВИР и спросили: «Вас же приглашают в Израиль — почему не подаете заявление?» Опасаясь провокации, И. около часа ничего ясного не говорил, потом отрезал: «Я думал, это не имеет смысла». «Почему не имеет? Заполните форму, и мы дадим время на сборы до конца месяца».
Разумеется, И. поедет не в Израиль: вначале из Вены в Англию, оттуда в Анн-Арбор, где Профферы издают журнал, посвященный русской литературе (по этому случаю я видел два [его] номера). Станет «университетским поэтом».
Эллендеа: «Ностальгия — это ведь такая прекрасная тема».
[...] В целом все выглядит оптимально: Иосиф получит американское гражданство, сможет пригласить родителей, может быть, даже приехать. Э.[ллендеа]: «Так или иначе, вы когда-нибудь встретитесь в Польше».
В Ленинграде, по слову Профферов, — цирк и похороны. Многие, прежде всего родители, Иосифа отговаривают, хотя власти ясно дали ему понять, что его ожидают беды, если он останется. [...]
Из государства выходит воздух, как из шины с отвернутым вентилем.
Позвонил Иосифу. [Иосиф:] «Настроение у меня совершенно никакое — пусто, да и только». С собой он возьмет лишь пишущую машинку.
Еду в Ленинград.
20. День с Иосифом.
Несколько часов ходили по набережной Невы, между Литейным и Смольным, вдоль заборов и по пустырям, глядя то на «Большой дом», то на Кресты, которые Иосиф называет «тюрьма в мавританском стиле». Сидели под мостом, курили. Говорили о предметах, о которых я умолчу даже в этом дневнике — слишком многих людей они касаются [...]. [Речь шла о том, что ряд друзей Иосифа мог бы переселиться в США и создать там «колонию».]
Все это уже похоже на прощание. Осталось несколько дней — видимо, И. будет выслан перед визитом Никсона в Ленинград.
От Ал.[ександра] Ив.[ановича] [отца Иосифа] слышал, что [...] И. написал заявление в Верховный Совет [по поводу нарушений его прав] и вскоре после этого получил приглашение зайти в ОВИР.
Теперь он пишет письмо К.[осыгину] — просит, чтобы ему разрешили исполнить договоры, кончить переводы Норвида и английских метафизиков. «Хотя я уже не советский гражданин, я остаюсь русским литератором». Бессмысленно ожидать, что из этого письма что-либо получится, но принципиальное значение оно имеет.
«В ОВИРе — политес [вежливость], в Союзе писателей характеристику мне выдали в пять минут — бежали, прыгая через ступеньки. А я все-таки думал, что представляю для них хоть потенциальную ценность». «Ну, знаешь ли, представлять для них ценность — невелика честь». «Ты прав».
«Кстати, я сочинил песенку на мотив Пиаф:
Подам, подам, подам,
Подам документы в ОВИР,
К мадам, к мадам, к мадам
Отправлюсь я к Голде Меир.