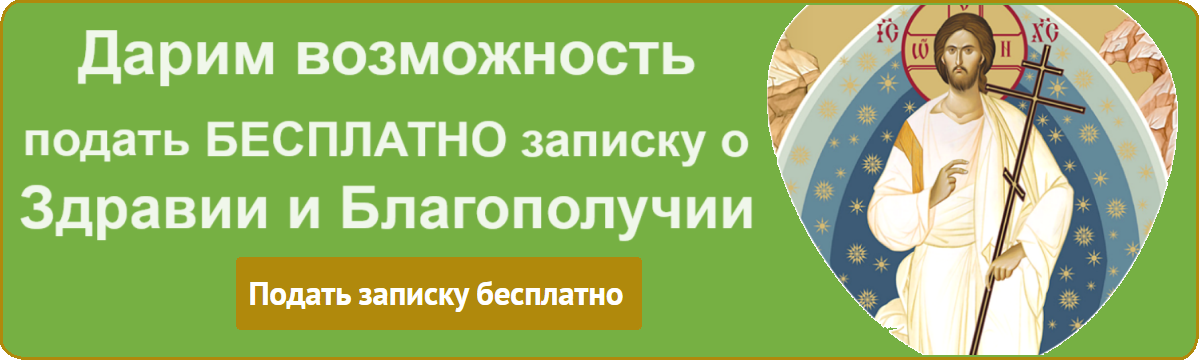- Лента
- |
- Участники
- |
- Фото 1363
- |
- Видео 0
- |
- Мероприятия 0
ИВАН БУНИН автор Степун Федор Августович
Часть 3.
Сущность памяти, как то прекрасно выражает подчеркнутая третья строка ивановской строфы, в спасении образов жизни от власти времени. Несбереженное памятью прошлое проходит во времени, — сбереженное обретает вечную жизнь. В отличие от воспоминаний, всегда стремящихся «вернуть невозвратное», память никогда не спорит со временем, потому что она над ним властвует. Для нее, в ее последней глубине, не важно, умирает ли нечто во времени или нет, потому что в ней все восстает из мертвых. Возвышаясь над временем, она естественно возвышается и над всеми измерениями его, над прошлым, настоящим и будущим, почему в ней и легко совмещаются несовместимые во времени явления. Память это тишина и мир.
Связь памяти и вечности Бунин прекрасно выразил еще в 1916 году:
Поэзия не в том, совсем не в том, что свет
Поэзией зовет. Она в моем наследстве.
Чем я богаче им, тем больше я поэт.
Я говорю себе, почуяв темный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
— Нет в мире разных душ и времени в нем нет.
После «окаянных дней» революции творчество Бунина не сразу «пришло в память». Но начиная с «Несрочной весны», свет ее все сильнее и одухотвореннее озаряет писателя Бунина. Тема Баратынского, тема призрачных, но бессмертных «летейских теней», торжествующих над тяжестью утрат и горестей, тема «неземной обители», в которой «утверждаются» или, быть может, точнее возрождаются к вечной жизни умершие на земле образы, становится главной темой бунинского творчества.
* * *
Зарубежная литература очень богата произведениями, посвященными отошедшей России. И это вполне понятно: тоска о прошлом — нерв нашей эмигрантской жизни. Но в отличие от Бунина большинство писателей «зовет» не память, а воспоминанья, всегда свои, всегда очень личные, каждому милые, но болезненные и больные. Отсюда нервность, сентиментальность, развинченность и взвинченность многих эмигрантских произведений, их белоствольные березки, кустарные петушки и росяные слезы.
У Бунина этого всего нет. Строй его последних созданий высок, прозрачен и спокоен. Многие страницы по своему настроению напоминают пушкинскую осень.
Есть люди, — и их немало, — которым этот строй не под силу, которых бунинское изображение дореволюционной России, в котором ничто не трепещет, не рыдает и не надрывается, оставляет холодными и неудовлетворенными, им более близки другие писатели, которые не служат, подобно Бунину, строгой панихиды по дорогой их сердцу России, а просто по человечеству воют и убиваются по ней. Предпочтение это вполне понятно: проникновение в Бунина требует духовности и обостренного художественного зрения, а не только искренней душевности и повышенной нервности, которых в мире гораздо больше, чем духа и дара.
* * *
Бунин не сразу поднялся на высоту своих последних вещей. Своим путем художника, путем «прояснения материи» (Г. Адамович), он шел медленно и осмотрительно. Раньше всего ему открылся сокровенный лик природы. О бунинском изображении природы я пишу в статье о «Митиной любви». Потому скажу лишь кратко, что природа Бунина при всей реалистической точности его письма все же совершенно иная, чем у двух величайших наших реалистов — у Толстого и Тургенева. Природа Бунина зыблемее, музыкальнее, психичнее и, быть может, даже мистичнее природы Толстого и Тургенева. Разница эта объясняется не столько тем, что Бунин — поэт, сколько иным чем у Толстого и Тургенева отношением между природой и человеком. Тургенев и Толстой прежде всего заняты людьми, их душами и судьбами. У Бунина же, в сущности, нет ни одной вещи, в которой человеку было бы указано совершенно особое место в мире, в котором он был бы показан, как существо принципиально несоизмеримое со всеми другими существами. Всякий метафизический антропологизм, составляющий силу Достоевского, глубоко чужд Бунину. Человек в творчестве Бунина, конечно, присутствует; меткость и сила его портретного мастерства изумительна, но человек присутствует в художественном мире Бунина как бы в растворенном виде; не как сверхприродная вершина, а как природная глубина. И оттого, что в бунинской природе растворен человек, она так утонченно человечна.
В «Митиной любви» Бунин впервые выдвинул человека, как имя собственное. Но этим, новым для себя путем, в дальнейшем он не пошел. В последних вещах у него на первом плане снова природа, история, память, люди, но не отдельные лица и их индивидуальные судьбы.
«Странствия» — один за другим возникают лики России — монастыри: Данилов — в Москве, Макарьевский — на Волге, монастырь Саввы с собором XIV века, Троицкая лавра; старинные поместья: Измайловское, вотчина Алексея Михайловича, Троицкое Румянцева, Астафьево, где в кабинете Карамзина под стеклом лежат вещи Пушкина, и другие, не столь знаменитые, но столь же дорогие памятливому сердцу места. Так возникает в «странствиях» незапятнанная, нерушимая Русь и над нею вопрос, — а что если разрушится нерушимое и забудется незапамятное?
«Жизнь Арсеньева» — это, конечно, не роман в традиционном смысле этого слова (он ведь так и не назван автором), а нечто совершенно особое. Что? — сказать трудно. Отчасти философская поэма, а отчасти симфоническая картина. Но названия, в конце концов, безразличны. Сила и сущность «Арсеньева» в том, что в нем встретились и слились две темы: метафизически-психологическая тема высветления бунинских воспоминаний в вечную память и исторически-бытовая тема гибели царской России.
Действующие лица «Арсеньева» не отдельные люди. Ни сам Арсеньев, ни его близкие не занимают первого плана. На первом плане стоят «вещи и дела человеческие», которым посвящены недоумения и раздумья Арсеньева-Бунина. Картины этой философской поэмы развертываются в нескольких планах — в природном, социальном, историческом и метафизическом. Очень сильно чувствуется природный круговорот: весна, лето, осень, зима; очень сильно прочерчивается географический крест: север, юг, восток и запад; очень живы в быту и психологии отдельные сословия — дворяне, купцы, крестьяне, мещане; также отдельные народности и полосы России, ее города и дали. Крепко остаются в памяти (начало «Истока»), как бы из космического тумана возникшие первоосновы жизни — базар, тюрьма, собор. За этими как бы вечными столпами всякого человеческого бытия выступают менее существенные, но не менее характерные для России детали: перила и колонки провинциальных дворянских гостиниц, красные ковры под начальственными ногами у всенощной, двуносые мещанские рукомойники, табачные дымки в канцеляриях, присутствиях и провинциальных редакциях, поезда и вокзалы, тарантасы, большаки и т. д. и т. д. Всего этого очень много, конечно, и во всех других романах. Но в «Арсеньеве» все это существует по иному и по особому. Очевидно потому, что города и веси, вещи и обличья, изображаемые Буниным в «Арсеньеве», отнюдь не случайности, попадающиеся на глаза его герою, но предметно и формально необходимые факторы всего повествования. При всей страстности и интуитивности бунинского письма, в «Арсеньеве» есть нечто почти исследовательское, есть какой-то свой, бунинским глазом за всю его жизнь собранный и на страницах «Арсеньева» прекрасно размещенный краеведческий и этнографический музей, в котором каждая вещь поставлена и повернута так, что раз увидев, ее никогда не забудешь. Этот элемент художественного познания представляется мне особенно важным и ценным в бунинском изобразительстве. Без него «Арсеньев» не мог бы превратиться в ту симфоническую картину России, которую он собой представляет.
Осуществление этой картины оказалось Бунину под силу исключительно благодаря тому мастерству, с которым он владеет главным даром художника: умением выбора между необходимым и, пусть столь же прекрасным, но излишним. Гетевское слово о самоограничении, как о высшем мастерстве художника, ни к кому из русских писателей не применимо с такой безоговорочностью, как к Бунину. О Смоленске и Витебске — одна страница; но на ней, благодаря выбору образов, запад России дан с исчерпывающей полнотой. Мерзлый кабан, местечковые евреи, желтый костел и железный рыцарь в нем. Так же дана и весенняя Москва: вначале как бы случайное слово о «восточном излишестве» торговли, а в заключение подробное описание картины в трактире Егорова, изображающей китайцев, пьющих чай. Как будто бы пустяк, а между тем Москва этим пустяком сразу зрительно сдвинута на восток. Этим приемом замены сложных и длинных описаний точнейшим изображением нескольких символически репрезентативных предметов Бунин пользуется очень часто и с большим мастерством. Совершенно изумителен конец XV главы второй части. Страсть так часто описывали, что, приближаясь к ее описанию, невольно- начинаешь бояться за автора. Бунин сразу успокаивает. Вместо страсти он описывает ветер и грача, но читая его описание чувствуешь перебои в сердце. «В нашем городе бушевал пьяный азовский ветер!» — так начинается страница, а затем просто: «Я запер дверь на ключ, ледяными руками опустил на окнах шторы, — ветер качал за ними черно-весеннее дерево, на котором кричал и мотался грач...» Замечательно. Короче и точнее о налетности и космичности страсти, о ее мотающей душу силе сказать нельзя.
* * *
В заключение одно слово к читателю. Признаемся, что мы все развращены ловкостью, острословием, занятностью и интересностью современного писательства; что мы читаем невнимательно, неряшливо и приблизительно, не погружаясь в отдельные слова., а лишь скользя по ним, т. е. читаем вовсе не то, что написано, а нечто лишь отдаленно на написанное похожее. Незначительные писатели, больше литераторы, чем художники, такое чтение переносят. Так как они сами творят вполруки, то их можно «вполруки» и читать. Бунин такого чтения не переносит. При приблизительном чтении от него почти ничего не остается; это видно по переводам его вещей. Он почти непереводим. Потому добрый совет всем тем, которые сейчас снова, а, может быть, и впервые, возьмутся за книги Бунина. Читать его надо медленно и погружено, всматриваясь в каждый образ и вслушиваясь в каждый ритм, памятуя о знаменитых славах Шопенгауэра: «Искусство суровый властитель; подчас надо долго ждать, пока оно соизволит заговорить с тобой».