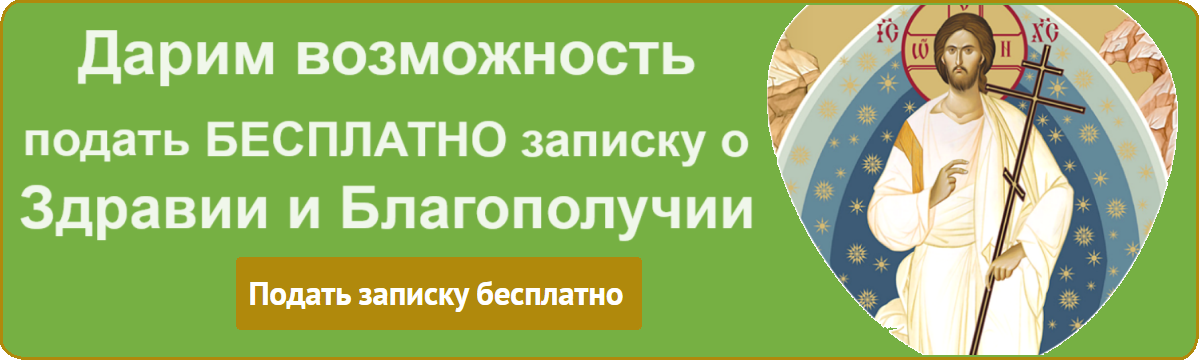- Лента
- |
- Участники
- |
- Фото 248
- |
- Видео 0
- |
- Мероприятия 0
НЕМЕЦ
Ульяна Васильева-Лавриеня
До отправления поезда оставалось около десяти минут, а я ещё только подъезжала к Павелецкой. Гонка была нешуточной, вариант «опоздала на поезд и поэтому не приехала» не проходил, мне кровь из носу нужно было успеть.
Буквально запрыгнув в последний вагон, я втащила в тамбур чемодан в тот момент, когда поезд тронулся. Грохоча колёсами чемодана по переходам, я в сотый раз корила себя за неосмотрительность и наивную веру в незыблемость расписания движения электричек. До своего вагона мне предстояло пройти почти весь состав. Через полчаса я всё-таки добралась до своего законного места. Попутчики уже удобно расположились в купе, к моменту моего появления все они переоделись в дорожную одежду, юноша с удовольствием вытянулся на верхней полке и читал книжку.
– О, пропажа нашлась, – откликнулась на моё запыхавшееся «ну, здравствуйте» невысокая, приятной полноты светлолицая женщина. Алый румянец будто вытекал из ямочек на её округлых щеках. Светло-рыжие волнистые волосы подхвачены были обвязанной вокруг головы голубой шёлковой косынкой, кончики её забавно свешивались кроличьими ушками над высоким лбом. – А мы гадали, куда четвёртый пассажир подевался. Мы билеты-то сегодня в интернете покупали, свободных мест совсем не было. Нам вот с Алёшей повезло прямо, вчера-то вечером ничего на этот поезд не было. Может, бронь какую сняли. Мы-то уж думали, что на автобусе придётся ночь трястись.
Как водится, мы познакомились. Нина и её сын Алёша, обстоятельно скопированный природой с матери, ехали в гости к старшей сестре.
– А меня зовите просто дедом. Меня все дедом зовут. Мне так привычнее, я уже на своё кровное имя не всегда откликаюсь. – Старик улыбнулся, сверкнув белым рядом вставных зубов, особенно сильно выделявшихся на фоне смуглого лица, покрытого сеткой глубоких морщин. Его водянисто-голубые глаза, уже почти бесцветные, молодо поблескивали в золотистых лучах закатного мартовского солнца. Возвращался он из санатория, куда ему ежегодно «девочки из соцзащиты», как он выразился, выделяют в конце зимы путёвку.
Пожилой сухопарый высокий мужчина легко поднял мой тяжёлый чемодан и уложил его в багажный ящик, галантно, как заправский кавалер помог мне снять куртку и аккуратно повесил её на плечиках рядом со своей. Под ее распахнувшимися полами мелькнул серый пиджак и несколько рядов орденских планок, прикреплённых к нему широким прямоугольником.
– Какой богатый у вас «иконостас»… Вы военный? Офицер? А я смотрю: такая выправка, такие манеры…
– Не, я крестьянин. Самый что ни на есть крестьянин. А награды – то за войну, на пузе прополз половину Советского Союза и пол-Европы.
– Да вы что? – подал голос с верхней полки Алёша. – Вы воевали? Я ни разу вот так близко ветерана настоящего не видел; ну там на параде по телевизору, в школу на линейку приходят. А можно посмотреть ваши награды?
– Да чего уж, смотри, только ж это не сами медали да ордена, это планки, чтоб ежедневно носить можно было.
– Круто… А вы с первого дня на войне были?
– Не, мне в сорок первом было только шестнадцать, не брали на фронт малолеток.
– Прямо как мне сейчас. Расскажете, за что награды?
– Дорога дальняя, чего уж не рассказать. Только, миленький мой, не люблю я про войну вспоминать. Тяжёлое это дело, грязное, плохо пахнущее. И страшное. Я столько страху там за два года натерпелся, сколько потом за всю жизнь не получалось. И никакой романтики. Выжить бы, да фашистов добить, вот и всё.
В полуприкрытую дверь купе постучали, и дородная проводница с видом классического коробейника внесла на блестящем подносе шоколадки, печенюшки, упаковки доширака и сувениры от «РЖД», предложила нам чай, кофе. После её ухода, как-то не сговариваясь, мы зашуршали пакетами, извлекая на стол заботливо приготовленные для нас домочадцами бутерброды, прослоенные изумрудными листиками салата; чесночком и приправами пахнущие котлеты; отливающую медью зажаренную курочку, и зелёные опалы маринованных огурчиков с налипшими на них ниточками укропа. В такт движения поезда громадными жемчужинами покачивались на расстеленной салфетке традиционные в дороге варёные яйца. Всё пространство купе заполнилось пряными, дразнящими аппетит ароматами. Безучастным к нашим обеденным приготовлениям оставался только старик: откинувшись к спинке сиденья, он сосредоточенно разгадывал кроссворд, нацепив на нос аккуратные очки в тонкой золотистой оправе. Время от времени он переадресовывал вопрос нам, и тогда мы подсказывали ему свои варианты. Когда сервировка стола нашими с Ниной совместными усилиями была завершена, мы пригласили всех отобедать.
– Нет-нет, – запротестовал старик, – я не голоден. Я перед дорогой пообедал в санатории, вы кушайте, не смотрите на меня.
После наших настойчивых приглашений он сдался, смущённо посетовав, что ему поделиться с нами нечем: поиздержался на отдыхе, не рассчитал и денег у него осталось только на то, чтобы добраться до дома.
– С барышнями прогулял, дед? Поди на танцульки бегал, да по кафе подружек водил? – не удержалась от шутки Нина.
– Ну что ж, и в кафе, было дело, пару раз заглянули. Я парень свободный, вольный, Мартушка моя меня покинула, так что ж мне, бобылём век коротать? – лукаво подмигнул старик. – На нашу пенсию разве ж разгуляешься?
– А про войну расскажете? – не унимался Алексей. – Вы кем были?
– Сначала пулемётчиком, а потом в разведроте до конца войны.
– И за линию фронта ходили? И пленных брали?
– Бывало, ходил. Чаще, правда, ползать приходилось, иначе быстро подстрелят. И языков брал, орден Красной Звезды как раз за это получил. Мы важного генерала взяли с документами о предстоящем наступлении, тогда нас всех и наградили. Сам Жуков руку пожал.
– Можно я про вас сочинение напишу, нам про героя нашего времени задали. Это просто бомба будет, ни у кого из наших нет знакомого ветерана. Как вас зовут?
Алексей достал телефон, чтоб записать имя старика.
– Ну, смутил ты меня. Прямо уж героя сделал. У нас выбора не было, вот и воевали. Ладно, записывай. Я Отто Генрихович Шварцберг.
– Ничёсе! – удивился Алексей. – Шварцберг? Вы из Прибалтики, да? Латыш?
– Чего ж сразу латыш? – насупился ветеран, – немец я.
– Как – немец? – в голос удивились мы с Ниной, – настоящий?
– А что в этом такого? Ну есть же русские, киргизы, украинцы, или там чукчи, евреи, белорусы. А что ж в немцах не так? – парировал старик.
– Как же против своих-то воевать пошёл? Тем более пулемётчиком, разведчиком? – спросила Нина. – Вон, генералов в плен брал. А как же будешь перед Господом ответ держать, что своих убивал?
Старик выпрямился, дрожащими руками нервно снял очки, потом надел их снова и, повернувшись в пол-оборота к Нине, будто задохнувшись, выдавил:
– Я немец, но не фашист. Какие ж они мне «свои»? Кому они «свои»? Я их сюда не звал, я их детей не расстреливал, их дома не жёг. – Даже сквозь загар было видно, как побледнело его лицо; желваки вздулись на скулах; тонкие, с крупными натруженными суставами пальцы, казалось, жили собственной жизнью, отдельно от ладоней, и теребили журнал кроссвордов.
Мы подавленно молчали. Мне было стыдно за проявленную бестактность, и я растерянно соображала, как разрядить сложившуюся ситуацию. Лицо Нины залило пунцовым румянцем, она испуганно часто моргала, Алексей ошеломлённо замер с телефоном в руке.
– Вот ведь судьба: всю жизнь оправдываюсь. А в чём – ума не дам. Мой пра-пра-прадед перебрался в Россию ещё при Екатерине, там, в Германии, у нас прямых родственников не осталось ни единого человека. Все и всё – здесь.
– Мы не хотели вас как-то обидеть, я вообще такая... Сначала говорю, потом думаю, столько проблем из-за этого. Вы простите меня, Бога ради, – наконец робко пролепетала Нина. – Честное слово, не подумавши брякнула.
– Да не вы первая мне говорите. Даже чтоб на фронт попасть, мне от моей национальности пришлось публично отказаться.
– Как так? – удивлённо воскликнул Алексей.
– Да вот так. В газете люди давали объявление, что я, такой-то и такой-то, официально отрекаюсь от моей принадлежности к нации, породившей фашизм и приносящей столько горя моей любимой стране и советскому народу, и прошу с этого дня считать меня таким-то и таким-то. Многие имена и фамилии меняли. Как жить с позорным клеймом? Это уже перед тем, как я на фронт пошёл проситься, а до этого много чего испытать пришлось.
– Вот это да... – присвистнул Алёша.
– Жили мы на Волге; там, если знаешь, была Автономная республика немцев Поволжья. Все мои предки были садовниками, выращивали плодовые деревья, но особенно у нас яблони хороши были, больше ста деревьев самых разных сортов. Отец мой дружил с Мичуриным, у него многому учился. У нас яблоня одна была, так на неё мои дед и отец около сорока сортов привили, и плодоносила она с начала июля до самых морозов. А цвела как, загляденье просто! И ульи под яблонями стояли, от пчёл деревья гудели. Яблоки мы не продавали, мы их в детские сады, приюты, больницы задаром отвозили. – Старик рассказывал про сад с такими вдохновением и любовью, что в какой-то момент я наяву ощутила тонкий аромат покрытого капельками утренней росы румяного, наливного яблока, и сглотнула набежавшую слюну. – У нас дом был двухэтажный, каменный и с большим подвалом, ещё прадед мой строил. Яблоки там хранились до нового урожая. И ещё выращивали саженцы, вот этим и жили. А что такое саженец вырастить? Это как младенца выпестовать: четыре года нянькаешься с ним – то прополка, то полив, то заморозки, то снегом завалит, то, наоборот, сушь морозная стоит, то летняя засуха, то наводнение, то мыши, то зайцы. А насекомьей заразы сколько – не перечесть.
Старик на минуту замолчал, будто собирался с мыслями, стоит ли говорить дальше. Вздохнул, глядя в сумеречное заоконное пространство, а его натруженная, мозолистая рука непроизвольно поглаживала грудь в области сердца.
– У нас большая семья была. Четыре поколения в одном доме жили. Дружно жили, помогали друг другу. У брата весной, как раз перед самой войной, ребёнок родился. В первые дни войны отец с братом на фронт добровольцами ушли, а нас, советский немецкий народ, объявили врагами всего советского народа. Глубокой осенью всех немцев выселили в казахстанские степи. Что мы могли с собой взять? Тёплые вещи, инструмент кое-какой, пару мешков картошки, да мешочек с семенами яблок. Всё наше богатство – сад, а его ж с собой не увезёшь. Дед мой плакал, он с каждой яблоней прощался, как с любимой женщиной. Знал, что уже не вернётся к ним. – Старик отпил глоток давно остывшего чая, немного помолчал и продолжил рассказ. – Везли в теплушках, без нар, навалом, как скот. Долго везли, больше месяца. Бабушка первой не выдержала, отмучилась. На каком-то пустынном полустанке всех покойников сняли с эшелона – а похоронили, или так бросили, не знаю. Спасибо за заботу: выделили армейские палатки нам, – вот и всё жильё. Ни дров, ни воды поблизости, ни дорог. Только ветер промозглый, да степь бескрайняя. В первую зиму умер ребёнок, а Эльза, жена брата, умом тронулась и в степь ушла. Искали мы её долго, да так и не нашли. Тогда дед мой простудился и слёг, больше уже не встал. Летом, в самое пекло, мать померла. С фронта мы никаких вестей не получали: нас, как врагов народа, лишили права переписки.
Мы оглушённо молчали. И вроде знали всё про Немецкую Поволжскую республику и про депортацию этого народа, но как-то отвлечённо, нас же это не касалось напрямую, мы-то “врагами народа” не были. Напротив сидел дедушка, совершенно ничем не отличающийся от множества других пожилых людей: в растянутых на коленках трениках, видавшей виды футболке, китайских резиновых шлёпанцах, с натруженными руками и непроходящей, сквозняком пронизывающей печалью в глазах... Какой же он враг? Сердце моё охватила боль; одновременно хотелось и плакать, и выйти из купе, чтоб не выказать жалости, которой он не просил, и обнять его, и прощения просить. За всю нашу историю, за всё то корявое и несправедливое, что выпало на долю каждого человека в нашей многострадальной стране.
– Умные люди подсказали, вот тогда я и написал объявление в газете. Зашел в райисполком Отто Генрихович Шварцберг, а оттуда уже вышел Анатолий Геннадьевич Черногорцев. И справка об этом выдана мне была. – Он глубоко вздохнул, словно выгнал вместе с воздухом комок душевной боли. – Собрал в сидор нехитрые пожитки, иконку Девы Марии да мешочек с яблочными семенами и пошёл на фронт новую биографию себе писать.
– Ваши сослуживцы знали, кто вы на самом деле? – поинтересовалась я. – И если знали, как относились?
-Особо не афишировал. А если узнавали, по-разному относились. Кто-то спокойно, а были такие, кто и в спину мог выстрелить. Да я их не осуждаю. Всем лиха хватило, всех горе слепыми и глухими к рассудку могло сделать. Войну в Будапеште закончил, и потом ещё два года срочную службу оттарабанил. Демобилизовался в сорок седьмом, и поехал не в Казахстан, а на родину, домой.
Старик снова замолчал. Алексей, воспользовавшись паузой, метнулся по коридору вагона к титану с кипятком и принес четыре стакана чая.
– Может, вам валидола? – засуетилась Нина, заметив беспокойное движение руки ветерана. – Я сейчас быстро к проводнику сбегаю.
– Не надо, дочка, всё хорошо. Ерунда. Это не сердце, это душа облегчение получила. Столько лет молчал, а вот поди ж ты – совсем незнакомым людям вот так открылся, выговорился.
– А как дальше жили, расскажете? – Алёша подсел ближе к старику.
– Расскажу, коль тебе так интересно. Приехал домой, а там поле выжженное. Стою и понять не могу, где и что и куда я попал. От дома одни головёшки, иван-чаем заросшие, а от сада одни пеньки. И стоит посреди этого одна-единственная яблоня, каким чудом уцелевшая, одному Господу Богу известно. Покромсанная, обломанная, обгоревшая, ствол с одного боку подпилен на половину почти, а живая... Живая, Господи! И яблочки на ней висят – разноцветные, всех размеров. Выжила, сердешная, чудо наше селекционное. Видать, оттуда, сверху, все мои покойники её берегли. А под ней воронка от взрыва, да пила, осколками продырявленная, валяется. Не успели яблоню на дрова спилить. Обнял я её, матушку, да и расплакался. На фронте не плакал, хоть не раз бывало и страшно, и больно, особенно когда оперировали после ранения в медсанбате. Вот как вернулся я на своё селище, так с тех пор там и живу.
– А как же сложилась судьба отца и брата? Они вернулись с войны?
– В прошлом году вернулись. Поисковики обнаружили их останки в Демянском котле, недалеко от деревни Кулотино. Там бои тяжёлые шли в мае сорок второго. Там они и погибли. Их тела рядом были, в одной воронке. Ездил я на захоронение, привёз на могилку родной земли да яблок из нашего сада.
– Царствие небесное павшим воинам, – не сговариваясь, в голос произнесли мы с Ниной и перекрестились.
– Обалдеть... – Алёша не скрывал своих эмоций, – обалдеть...
– Так получается, вы и сад восстановили? – полюбопытствовала Нина.
– Восстановил. Мешочек с семенами со мной всю войну прошёл, я его пуще зеницы берёг. Год раскорчёвывал участок от пней, деляночку подготовил под сеянцы. Думал, что уже и всхожесть потеряна у семян, а десяток росточков проклюнулось. Бывают чудеса, видно, высокой была тяга к жизни в то время. Так что шелестит листочками наш сад и пчёлы в нём гудят, как и раньше.
– И все, как раньше?
– И имя своё восстановил. Не мог я жить под чужим. Неправильно это.
– А семья у вас есть?
– Есть... Вернее, была. Мартушка моя три года назад оставила меня, а детей нам Господь не дал. Война здоровье у жены отняла, она санинструктором на фронте была. И меня, между прочим, с поля боя на своих девчачьих плечиках вынесла. Нашёл я её, да и привёз под нашу мать-яблоню. Первый год мы с Мартой в землянке жили, потом домик поставили. И сад вырастили. А яблоки, как и при дедах заведено было, бесплатно раздаю. Мне пенсии хватает, много ли старику нужно?
Чай снова остыл, покрывшись тонкой железистой плёночкой, разошедшейся трещинками, как молодой ледок на озере. Проводница уже давно пригасила верхний свет, усталый вагон затих, угомонился хныкавший за стенкой ребёнок. Лишь мерное постукивание колёс да мелькание неярких фонарей нечастых полустанков оживляли пространство маленького купе, вместившего сегодня всю многогранность нашей трагической истории, прокатившейся молохом по судьбе одного человека.
– Ох, и заговорили мы вас, утомили. Простите, что душу разбередили. Для нас эта правда – как глоток чистой воды в засуху. Спасибо вам за откровенность. – Я погладила старику руку, кожа на которой была прозрачной, как древнеегипетский пергамент.
– Несколько лет назад историю одну мне рассказали, – продолжил ветеран, – во время войны и некоторое время после колесила по стране седая, как лунь, худенькая женщина. У всех она спрашивала про мужа своего и ребёнка. И звали её Полоумная Эльза. Уж не знаю, наша ли то была Эльза, или ещё какая бедолага... – тяжело вздохнул он. – Давайте спать, что ли. Я с утра на ногах. Притомился что-то.
До моей станции оставалось чуть больше пары часов пути, эмоции сегодняшнего дня не давали мне уснуть. Нина и Алексей, устроившиеся на верхних полках, быстро заснули, их спокойное дыхание навевало ощущение уюта и покоя. Слышно было, что отвернувшийся к стенке старик не спит, а тихо лежит, время от времени подавляя глубокие вздохи.
За полчаса до своей станции я положила на краешек стола две визитки и, стараясь никого не потревожить, выскользнула за двери купе. Минут через десять в коридор спящего вагона вышел и старик.
– Не спится. Провожу тебя, дочка, помогу чемодан вынести. Да воздуха глотнуть хочется. Ты не серчай, ладно? Вывалил на вашу голову всё исподнее, что жизнью накопилось. Но ведь разве ж они мне «свои»? Не, дочка, не свои они. Зверь человеку никогда своим не был. И не будет...
Уже не скрывая слёз, я обняла деда, спустилась на перрон своей окутанной морозным мартовским влажным туманом станции и проводила взглядом уплывающий в ночь поезд. Старик, стоя в проёме двери за спиной полусонной проводницы, на прощание махнул мне рукой.
– Увидимся ли ещё? – грустно подумалось мне.
****
Вечером девятого мая тихонько звякнуло о дно моего электронного почтового ящика новое письмо. Было оно с незнакомого адреса, в его теме стояло “Дед”.
С волнением я щёлкнула курсором, письмо медленно загрузилось. В тексте было всего два слова: “Мой дед”, – и прикрепленная фотография. На ней под старой кривобокой яблоней, взметнувшей к небу чёрные руки-ветви и усыпанной зефирно-бело-розовыми цветами, в обнимку стояли высокий улыбающийся Отто Генрихович Шварцберг в парадном костюме с боевыми наградами, и счастливый, с ямочками на румяных щеках парнишка Алёша.
По материалам сайта Proza.ru