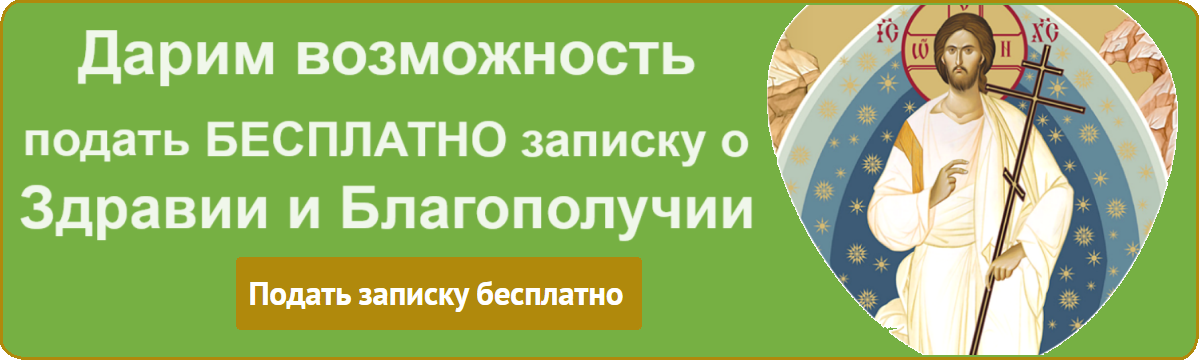- Лента
- |
- Участники
- |
- Фото 2143
- |
- Видео 50
- |
- Мероприятия 0
Состояние, которое мы называем изгнанием или попутного ветра... Часть 1
Коль скоро мы собрались здесь, в этом очаровательном светлом зале этим холодным декабрьским вечером, чтобы обсудить невзгоды писателя в изгнании, остановимся на минутку и подумаем о тех, кто совершенно естественно в этот зал не попал. Вообразим, к примеру, турецких Gastarbeiter, бродящих по улицам Западной Германии, с недоумением или завистью взирая на окружающую действительность. Или вообразим вьетнамских беженцев, болтающихся на лодках в открытом море или уже осевших где-нибудь на задворках Австралии. Вообразим нелегальных иммигрантов из Мексики, ползущих по ущельям Южной Калифорнии мимо пограничных патрулей на территорию Соединенных Штатов. Или вообразим корабли, набитые пакистанцами, высаживающимися где-нибудь в Кувейте или Саудовской Аравии в поисках черной работы, которую разбогатевшие на нефти аборигены не желают делать. Вообразим толпы эфиопов, бредущих через некую пустыню в сторону Сомали (а может быть, наоборот?), спасаясь от голода. Давайте здесь остановимся, поскольку эта минута, отданная воображению, уже прошла, хотя многих можно было бы добавить к этому списку. Никто никогда не считал этих людей, и никто, даже при поддержке ООН, не сочтет: они исчисляются миллионами, ускользая от статистики, и образуют то, что называется -- за неимением лучшего термина или большего сочувствия -- миграцией.
Каково бы ни было правильное название для этого явления, чем бы ни руководствовались эти люди, откуда и куда бы они ни перемещались, какими бы ни были их воздействия на общества, которые они оставляют и в которые они приходят, одно совершенно ясно: они осложняют серьезный разговор о трудной судьбе писателя в изгнании.
Однако говорить мы должны; не только потому, что литература, подобно нищете, не оставляет своими заботами подопечных, но главным образом из-за древнего и, возможно, пока необоснованного убеждения, что если бы мастеров этого мира лучше читали, то дурное управление и горе, заставляющие миллионы пуститься в путь, несколько бы уменьшились. Поскольку особых оснований уповать на лучший мир нет и поскольку все остальное, по-видимому, в той или иной мере оказывается недейственным, мы вынуждены настаивать на том, что литература -- единственная форма нравственного страхования, которая есть у общества; что она неизменное противоядие принципу "человек человеку -- волк"; что она приводит наилучший довод против любого массового, тотального решения, хотя бы потому, что вся она от начала и до конца -- о человеческом разнообразии и в этом ее raison d'etre. Мы должны говорить, потому что должны настаивать на том, что литература есть величайший -- безусловно, более великий, чем любое вероучение, -- учитель человеческой тонкости и, вмешиваясь в естественное существование литературы и мешая людям постигать ее уроки, общество снижает свой потенциал, замедляет ход эволюции и в конечном счете, возможно, подвергает опасности свое собственное устройство. Если это означает, что мы должны говорить сами с собой, тем лучше: не для нас, но, возможно, для литературы.
Нравится это изгнанному писателю или нет, но Gastarbeiter и беженцы любого типа лишают его ореола исключительности. Перемещенные и неуместные -- суть общее место нашего столетия. А общее у нашего изгнанного писателя с Gastarbeiter или политическим беженцем -- то, что в обоих случаях человек бежит от худшего к лучшему. Истина заключается в том, что из тирании человека можно изгнать только в демократию. Ибо старое доброе изгнание -- нынче совсем не то, что раньше. Оно состоит не в том, чтобы отправиться из цивилизованного Рима в дикую Сарматию или выслать человека, скажем, из Болгарии в Китай. Нет, теперь это, как правило, -- переход от политического и экономического болота в индустриально передовое общество с новейшим словом о свободе личности на устах. И следует добавить, что, возможно, дорога эта для изгнанного писателя во многих отношениях подобна возвращению домой, потому что он приближается к местонахождению идеалов, которыми все время вдохновлялся.
Если бы мы захотели определить жанр жизни изгнанного писателя -- это была бы трагикомедия. Благодаря своему предыдущему воплощению, он способен почувствовать социальные и материальные преимущества демократии гораздо острее, чем ее уроженцы. Однако точно по этой же причине (главным сопутствующим результатом которой является языковой барьер) он оказывается совершенно неспособным играть сколько-нибудь значительную роль в этом новом обществе. Демократия, в которую он прибыл, дает ему физическую безопасность, но делает его социально незначительным. А именно отсутствие значимости ни один писатель, будь он в изгнании или нет, не может принять.
Ибо стремление к значимости часто составляет основу его литературной биографии. По крайней мере, значимость -- частое биографии этой следствие. В случае с изгнанным писателем она почти всегда является причиной изгнания. К этому хочется добавить, что такое стремление в писателе есть условный рефлекс на вертикальную структуру его прежнего общества. (Для писателя, живущего в свободном обществе, наличие этого стремления выдает атавистическую память о неконституционном прошлом, которой наделена любая демократия.)
В этом отношении положение изгнанного писателя, в сущности, гораздо хуже положения Gastarbeiter или среднего беженца. Его стремление к признанию делает его беспокойным и заставляет позабыть о том, что его доход преподавателя колледжа, лектора, редактора или просто сотрудника тонкого журнала -- ибо это наиболее частые занятия изгнанных авторов в наши дни -- превосходит заработок чернорабочего. То есть наш герой, можно сказать, по определению, немного испорчен. Однако вид писателя, радующегося своей незначительности, тому, что его оставили в покое, своей анонимности, почти столь же редок, как зрелище какаду в Гренландии, даже при самых благоприятных обстоятельствах. Среди изгнанных писателей это явление почти совершенно отсутствует. По крайней мере, оно отсутствует в данном зале. Конечно, это можно понять, но тем не менее это печально.
Печально, потому что изгнание учит нас смирению, и это лучшее, что в нем есть. Можно даже сделать следующий шаг и предположить, что изгнание является высшим уроком этой добродетели. И он особенно бесценен для писателя, потому что дает ему наидлиннейшую перспективу. "И ты далеко в человечности", как сказал Китс. Затеряться в человечестве, в толпе -- толпе ли? -- среди миллиардов; стать пресловутой иголкой в этом стоге сена -- но иголкой, которую кто-то ищет, -- вот к чему сводится изгнание. "Оставь свое тщеславие, -- говорит оно, -- ты всего лишь песчинка в пустыне. Соизмеряй себя не со своими собратьями по перу, но с человеческой бесконечностью: она почти такая же дурная, как и нечеловеческая. Ты должен говорить исходя из нее, а не из своих зависти и честолюбия".
Ясно, что этот призыв остается неуслышанным. Почему-то комментатор жизни предпочитает предмету свое положение и, будучи в изгнании, считает его достаточно жестоким, чтобы не отягощать его еще больше. Что касается упомянутых призывов, то он находит их неуместными. Возможно, он прав, хотя призывы к смирению всегда своевременны. Ибо другая истина состоит в том, что изгнание -- состояние метафизическое. По крайней мере, оно имеет очень сильное, очень четкое метафизическое измерение; игнорировать или избегать его -- значит обманываться относительно смысла того, что с вами произошло, обречь себя на то, чтобы жизнь помыкала вами, окостенеть в позе непонимающей жертвы.
Из-за отсутствия хороших примеров нельзя описать альтернативное поведение (хотя приходят на ум Чеслав Милош и Роберт Музиль). Возможно, это и к лучшему, поскольку мы здесь, очевидно, для того, чтобы говорить о реальности изгнания, а не о его потенциале. А реальность состоит в том, что изгнанный писатель постоянно борется и интригует, чтобы вернуть себе значимость, ведущую роль и авторитет. Его главная забота, конечно, -- оставленный им народ; но он также хочет быть первым парнем на злобствующей деревеньке собратьев-эмигрантов. Выступая в роли страуса по отношению к метафизичности своего положения, он сосредоточивается на немедленном и осязаемом. Это означает поливание грязью коллег в сходном положении, желчную полемику с публикациями соперников, бесчисленные интервью на ВВС, Немецкой волне, ORTF (Французское радио и телевидение) и Голосе Америки, открытые письма, заявления для прессы, посещение конференций -- все что угодно. Энергия, прежде расходовавшаяся в очередях за продуктами или в душных приемных мелких чиновников, теперь высвобождена и неистовствует. Никем не сдерживаемое, тем более родней (ибо сам он сейчас, так сказать, жена Цезаря и вне подозрений -- да и как могла бы его, возможно, грамотная, но стареющая супруга возразить записному мученику или поправить его?), эго нашего героя быстро растет в диаметре и в конечном счете, наполнившись горячим СО2, уносит его от действительности -- особенно если он живет в Париже, где братья Монгольфье создали прецедент.
Путешествие на воздушном шаре опасно и прежде всего непредсказуемо: слишком легко стать игрушкой ветров, в данном случае ветров политических. Поэтому неудивительно, что наш навигатор напряженно прислушивается ко всем прогнозам и время от времени отваживается предсказывать погоду сам. Но не погоду того места, откуда он стартует или которое попадается ему на пути, но погоду в пункте назначения, ибо наш воздухоплаватель неизменно нацелен на дом.